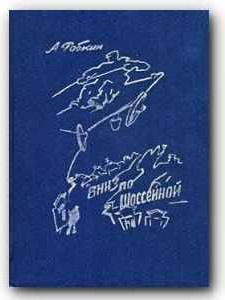
Предисловие
Пролог
Главы 1-5
Главы 6-10
Главы 11-15
Главы 16-19
Главы 20-23
Главы 24-26
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Апрель нагнетал соки в старые тополя, радостно горланили грачи, и выкатившиеся из сумрака гаража пожарные «АМО» грели на солнце красные бока.
Апрель растапливал последние залежи снега, и они, превращаясь в ручьи, вырывались из подворотен и весело мчали среди булыжников переулка в сторону базарной площади. Переулок был украшен старинным зданием с каланчой и древними тополями. Как-то случилось, что в пору всеобщих переименований переулок, упираясь своим началом в бывшую Скобелевскую, названную улицей Карла Маркса, так и остался по-прежнему Пожарным переулком. Наверное, слишком силен и необходим был извечный голос пожарного колокола и могуч и стоек дух лошадей, помп и развешанных для просушки рукавов.
Лошадей давно сменили краснобокие пожарные машины, но в нижнем этаже старинного здания с каланчой, в прохладном депо, пропахшем бензином, еще угадывался воздух конюшен и чудилось конское ржание. Пожарных машин было три, и они были гордостью пожарников города. В зимнюю скользкую пору для надежности на колеса машин наматывались цепи, и, лязгая ими и колотя учащенно колоколами, машины мчали по растревоженному городу.
Но, слава Богу, был апрель. Кончался зимний сезон, часто подсвеченный пожарами, и весельчак шофер, он же по необходимости и топорник, Степка Воловик в паре с Мотиком Раскиным помогали краснобоким «АМО» сбрасывать с худосочных колес ненужные цепи.
В такой день у машин вместе с дежурным караулом собирался весь цвет добровольного пожарного общества. Это была особая процедура, почти праздник перехода на летние дороги, на время, когда меньше топились печи, на спокойные от пожаров дни. Правда, все еще тлели, то угасая, то вспыхивая, опилки на гидролизном заводе, но эта болезнь в счет не шла.
Горланили грачи, купалось в разогретом воздухе и собственных бликах солнце, не за горами было Первое мая, и на душе у собравшихся было празднично.
Вот они стоят в первозданном уюте короткого Пожарного переулка, между улицей имени Карла Маркса и базарной площадью. Над ними в набухших и готовых взорваться первой зеленью старых тополях горланят грачи, у их ног, обутых в хромовые сапоги, курлычут и мчатся, омывая булыжники, весенние потоки.
Мац, Гор, Туник, Ярхо, Шэр, Евнин… Фамилии какие! Таких фамилий сейчас в Бобруйске нет. Извелись такие фамилии. Куда-то исчезли. Евреи еще есть, а фамилий таких больше не услышите. Пропали такие фамилии.
— Что ты хочешь? — как-то сказала Зина Гах. — Деревья и те пропадают. Возьми груши. Ты где-нибудь сейчас найдешь такой сорт — «смолянка» или «лесная красавица»? Сапожанки — и те высохли.
Она была права.
Правда, однажды, правда, уже давно на бобруйском базаре, когда он еще не был обезличен заморским товаром, а торговал своим, исконным, чем и славился, и был обилен помидорами, салом, чесноком, подсолнухами, домашними колбасами, когда выстроившиеся вдоль рядов с горами фруктов ярко одетые хозяйки держали на вытянутых руках откормленных кур, а у их ног смешно двигались и визжали завязанные мешки с одуревшими поросятами, — в то самое недавнее, но уже ставшее далеким время, среди шумного и пестрого разноголосья и разноцветья базара оранжево и забавно мелькали своим особым интересом горки вареных раков, а мужик-продавец, вытаскивая из корзины за жабры огромного сома, выкрикивал его родословную, и, стоило вам остановиться и пожелать, можно было услышать, что сом этот — прямой наследник того сома, пожирателя уток, что лет сто жил у Щатковского моста, питаясь утками-разинями и их выводками, чем наносил беспрестанный ущерб хозяйству сторожа, охранявшего мост и никак не способного изничтожить или хотя бы выпроводить подальше этого рыбьего хряка. Но нет худа без добра, и когда началась война, и мост горел, и огненные головешки падали в воду, и вода, наверное, закипала, а может, и нет, но столетний сом сплыл. А этот сомище — его брат, а может, сват.
— Берите сома! Берите раков!
Шумел базар, гоготали гуси…
Так вот, в то время, когда в ряду, пропахшем каляндрой и прочими специями, еще не скособоченная баба Лида из первой Зеленки объясняла, от каких болезней помогают ее травы и корешки, среди груды огурцов, помидоров, творога и банок сметаны мелькнула кучка смуглощеких небольших груш.
— «Смолянки»! — вдруг вырвалось забытое слово.
— «Смолянки», «смолянки»! — обрадованно быстро подхватил дедок в розовой рубахе. — Помнишь такие? Последние, наверно. Высохла груша.
…«Смолянки» среди прочих гостинцев привозили в пожарное депо родичи шофера Степки Воловика. Родичи давно расселились в деревнях вдоль Могилевского шоссе и, направляясь в город, укладывали в возы отдельной поклажей гостинец пожарникам.
У родичей, испытавших на своем веку пламя, пожравшее целую деревню, жил непроходящий страх перед пожаром и религиозное почтение к пожарникам. На лице Степки остались следы пожарного ужаса. Сказать «остались» будет неверно. Степка родился с этими отметинами. Случилось, что его мать на сносях жила у родителей в тех самых Угольях, от которых, как потом глупо шутили, остались одни уголья.
Пожар случился ночью. С вечера все погромыхивал гром, над лесом, укрыв закат, слились непроницаемо тучи. Но дождя не было. Лишь поднялся сильный ветер. Ветер гнал перед собой, взметая в столбы, колкий дорожный песок и, все крепчая, срывал с крыш пересохшую солому. В наступившей ветреной ночи где-то вспыхнул первый огонь.
…Не помогли ни багры, ни топоры, ни кадки с водой у каждого подворья, ни лестницы, ни издавна прибитые к каждому дому таблички, чтоб памятней было, кому с каким орудием выбегать на пожар.
Сгорели Уголья.
А на щеки у вскоре родившегося Степки перешли следы маминых рук. Схватилась она в ту ночь в ужасе за голову лицо от огня прикрыла, и достались Степе эти красные, чуть с просинью отметины. Отметины не мешали Степке быть веселым и красивым. Их словно не было на его всегда чисто выбритом лице, они скорее перешли в его стремительное нутро, готовое по первому звуку тревоги гнать на возможной скорости трезвонящую колоколом машину в ту сторону где занимался пожар, а там, схватив багор или кирку рваться вместе со всеми в самое пекло пламени.
Мне повезло. Не знаю, как случилось, что они все согласились на это. Я часто бывал у них, и они привыкли ко мне, и им, наверно, нравилось, что я рисую пожарные машины.
Они привыкли ко мне, а папу моего отца, моего Исаака, они любили.
Наверно, поэтому, когда сообщили о пожаре в Думенщине и начальник пожарной команды разрешил выезд, а я стоял рядом с моим Исааком и он им сказал: «Возьмем хлопца?!» — они согласились.
Веселый еще недавно Степка Воловик усадил меня с собой, и я увидел, каким бледным было его лицо и как странно и четко обозначились на нем знакомые пятна.
…Хорошо, что день был безветренный. Сгорел только прошлогодний высокий стог и сарай, и обгорели две прислонившиеся к нему старые груши. А пламя на крыше соседнего дома, откуда уже выносили узлы, быстро сбили мощные струи из брандспойтов.
Нас поили молоком и просили остаться обедать, а мать Степки Воловика низко кланялась ему и всем пожарникам. Она была обвязана коричневым клетчатым платком, казалась совсем не старой и, наверно, была очень доброй.
Чем ближе я подхожу к концу моего рассказа, тем тяжелее и невыносимее становится его груз. Тем ощутимее и слышнее из той дали скрежет колеса, которое умные люди называют колесом истории.
И как я ни пытаюсь улыбнуться, прикасаясь к свету, что заливал мое детство, за спиной у меня, низко склонив голову, стоит то, о чем еще предстоит рассказать.
Но до этого пока далеко, и давайте еще побудем в светлых днях, ведь они только начинаются. И апрель, хоть и выдался на удивление жарким, по календарю считается весенним месяцем, и через несколько дней будет Первое мая с оркестрами и цветами, и только потом, через месяц, наступит лето с плотами на Березине и рыбной ловлей, на которую брал меня с Севкой его отец, адвокат Александр Кузьмич.
Лето будет долгим, и мы с Севкой не раз придем к моему отцу на дежурство и, надышавшись прохладой депо и налюбовавшись медными касками, будем возиться в огромном остатке бронепоезда, который нашел себе приют на дворе пожарной команды.
Лето будет долгим и светлым, и только август омрачится арестом Славина и еще каких-то незнакомых людей, фамилии которых произносились шепотом.
Потом будет пожар на «Белплодотаре».
Он случится в сентябре, но это уже по календарю осень, хотя, наверное, раньше не было прекрасней этого месяца, и мы с Исааком одинаково, чуть с грустью, любили эту пору…
Но до этого сентября еще далеко, потому что сейчас только апрель, на удивление жаркий апрель, и нет ничего, в конце концов, страшного в том, что на его исходе, в один день, произошло столько пожаров.
Ведь титовцы спасли гончарню старого Рубана и не дали сгореть соседним домам, а городские пожарники с моим отцом и шофером Воловиком не дали разгуляться огню в Думенщине.
…Третий пожар случился после, когда мы весело возвращались в Бобруйск. Километра за два до старообрядческого кладбища, посредине шоссе, стоял лесник Колас и жестами требовал нашей остановки.
— В лесу дымит, может быть поздно, сворачивайте сюда! — и он, вскочив на подножку, указывал дорогу среди лесных просек…
Вам приходилось сталкиваться с лесным пожаром?
Может быть, это было только его начало, но он расползался, потрескивая, все более расширяющимся кругом, захватывая огнем уже всю поляну, заглатывая молодые сосенки, еще недавно похожие на голубых песцов, и они, скорчившись в пламени, превращались в смолистые факелы.
Уже пылал весь молодняк, и пламя, набирая силу стихии, взметая искры, уже по-недоброму гудело, подавляя человеческую волю и вызывая близкий к ужасу страх.
Зловещий гул пламени над гибнущим молодняком, нарастая и ярясь, заглушал пороховой треск наземного огня, все ускоряющего свое расползание и сжирание сухого вереска, мха и сосновой иглицы.
Наземный огонь, сливаясь с гудящими факелами гибнущих деревьев, рвался к большому лесу, чтобы, вступив в него, превратиться в стихию, уже не подвластную человеку.
И я услышал голос моего отца:
— Забегайте с разных сторон, рубите лапки, рассекайте его кольцо, копайте канавки! Быстрее!..
Его голос был сильным, и они все, испытанные пожарники и лесник Колас, подчинились ему. Они рубили ветки еще не тронутых огнем деревьев и, соорудив огромные веники-лапки, кидались с ними на наступающее кольцо огня, выбивая в нем дымящиеся, но подавленные проходы.
Секундами казалось, что это бесполезно и невозможно — так высоко и страшно было пламя внутри кольца, но они были смелые люди, и задохшихся под ударами лапок и комьев отрытой земли дымящихся проходов становилось все больше, а люди перебегали по огромному кольцу, охваченному пожаром, то пропадая в дыме, то появляясь на фоне пламени, всё колотили его ползучие языки и, изнемогая, добивались победы.
Смутно помню, как и я, подхваченный голосом моего отца, кинулся ему и им на помощь, как, отбежав в густой березняк, выламывал для себя лапку, стараясь, чтобы она была потолще и поплотнее, как кашлял, наглотавшись синего дыма, как нагнулся за оброненными ветками и, сгребая их, увидал птичье гнездо и в нем несколько голубых яиц и одно покрупнее, с рябинкой.
«Кукушкино яйцо!» — на долю секунды где-то не то прозвучало внутри, не то всплыло образом Славина, когда-то рассказавшего о кукушках.
Это была доля секунды, но она запомнилась яснее тех отчаянных минут, когда я вместе со всеми колотил и добивал лесной пожар.
Мы его победили, и лесник Иван Колас, закопченный и потный, сказал, что надо умыться. Он тяжело дышал, и мы все тяжело дышали. На всех была копоть, слипшаяся с потом, а глаза у всех были какие-то сумасшедшие.
Лесник Иван Колас сказал, что нужно умыться и что он еще вчера купался в озере, до которого совсем близко.
…Краснобокая пожарная машина стояла на берегу озера, которое называлось Святое болото, вода была действительно теплой и чистой, и голые мужики хохотали и плавали в этой золотистой, отражавшей песчаное дно воде.
Я доплыл до совсем близкого островка и с душой, полной радости и любви к моему отцу и к этим людям, и к этому солнечному дню, и ко всему прекрасному миру ходил по густой и уже совсем зеленой траве.
Наверное, я вспугнул ужа, и он, нырнув в воду, сохраняя достоинство, медленно куда-то уплыл.
Потом мы все отдыхали. Моя голова лежала на груди отца, и я слышал его сердце. Мы не говорили о том, что произошло. Я только рассказал ему о гнезде, на которое наткнулся, когда ломал ветки, и спросил, вернется ли в него птица. А он лежал на совсем уже зеленой траве и смотрел на меня снизу сквозь свои рыжеватые ресницы всепонимающе и чуть насмешливо, потом обнял мою голову, прижал к себе и сказал:
— Она обязательно вернется и высидит птенцов, и среди них будет один кукушонок, который вырастет и накукует нам долгую жизнь.
Я прижался к нему и почувствовал себя таким защищенным, каким уже больше никогда не был.
Потом было Первое мая.
Еще не дождавшись рассвета, в самую рань, проснулись воробьи. Они устроили веселую потасовку и, враз помирившись, разлетелись по заборам, чтобы там продолжить свой задиристый щебет. Но уже, заглушая его, в разных концах города глухо бухали барабаны, и, вплетаясь в отдаленные звуки духовых оркестров, стали различимы голоса поющих людей.
Украсив себя лучшей одеждой и радостью праздника, люди строились в колонны и, высоко подняв знамена и портреты вождей, стараясь шагать в такт маршам, с песнями двигались к центру города.
Случалось, что появившаяся из соседней улицы колонна создавала затор этому все нарастающему веселоголосому праздничному шествию. Тогда, вынужденно остановившись, колонны смешивались, и музыканты, подзадоривая танцующих взмахами труб и сами пританцовывая, играли вальсы, фокстроты и польки.
Проходили минуты, порядок восстанавливался, и шествие, взбодренное маршами, выходило на главную Социалистическую улицу, откуда, радостно ускоряя шаг, двигалось мимо обезглавленной белой церкви на крепостной плац, где была трибуна, мимо которой пройдут парадом воинские части, и, поднимая над собой детей, цветы и флаги и отпуская в небесную синь воздушные шары, потечет, отвечая трибуне криками «Ура!», этот праздничный человеческий поток.
Колонны еще только вышли на Социалистическую улицу, и оркестры, радуя тесно заполненные толпой тротуары, взмахнув трубами, еще увереннее и торжественнее грянули марши, и, перекрывая их голоса и споря с медью труб блеском пожарных касок, гордо шагает самый голосистый и слаженный в городе оркестр добровольного пожарного общества. А за ним, охваченные восторгом марша и достоинством своего долга, шагают пожарники, и среди них мой отец, мой Исаак.
Он чуть бледен, потому что это очень торжественно и серьезно — шагать в марше в такой праздничный день. На нем красивая форма, и сбоку его френча приторочена к ремню маленькая парадная кирка.
Он очень серьезен и строг, потому что из толпы на тротуарах на него обязательно смотрят с гордостью наши знакомые и мы с мамой и маленькой Соней.
Где-то в толпе, прислонившись к газетному киоску, прижав к себе стопку книг, стоит сумасшедший Мома, и в глазах его за стеклами пенсне блуждает вечность.
А оркестр гремит, заставляя чеканить шаг, и движутся колонны поглавной улице нашего города, по бокам которой уже зацвели каштаны, и над ними во всю ширь мостовой протянуто трепещущее красное полотнище, на котором крупно, доходя до сердца, написано: «Мы счастливы, что живем и трудимся в одно время с Великим Сталиным!»
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
В ту весну особенно широко и враз, укрывая город хрупким, но могучим разливом необъяснимо белого весеннего чуда, зацвели сады.
Волны белого чуда заливали форштадт, затопили Пушкинскую, бушевали на Минской и Костельной, пенились в садах Шоссейной и, взмывая к остановившимся облакам и, казалось бы, сливаясь с их знойным светом, все же превосходили его чистотой и силой цветения.
В тени заборов истомленные жарой псы лениво стряхивали с себя лепестки яблоневого цвета. Обочины улиц и дворов заполонили одуванчики. Во всю мочь цвели каштаны.
…Уходя вчера на дежурство, отец обнял меня и просил не болтаться с моими друзьями-свистунами по крышам и чердакам, не гарцевать на затесавшихся в наш двор чьих-то козах, а быть серьезным человеком.
Он говорил это очень серьезно, но в глазах его плясала смешинка, и, наверно, поэтому он добавил:
— А впрочем, гарцуй, пока гарцуется.
Мой друг, свистун Севка Петкевич, лет пять тому назад поселился у нас во дворе, и над нашей дружбой, охраняя ее, возвышался столетний тополь, за которым начинался фруктовый сад, и по его тенистым, заросшим лопухами тропинкам до сих пор бродит моя память.
Нашу дружбу с Севкой связывал высоченный и толщенный каштан. Он рос у крыльца того дома, где жил Севка. Каштан был могуч и щедр в цветении, и над ним и вокруг него, гудя и нежась в потоках тепла, кружили веселые майские жуки. Их было так много, что они, случалось, сталкивались в полете и, столкнувшись, падали на крыльцо или землю. Разгоряченные полетом, не успев убрать подкрылья, они вновь распахивали жесткие корытца крылышек и снова, радостно гудя, взлетали в душную гущу каштана.
Нашу дружбу с Севкой принимали его родители. Они были добрые и проницательные люди и хорошо знали, что разлучать нас после набегов на чердаки в поисках приключений и старых книг или скачек на блеющих перепуганных козах совершенно бесполезно, потому что мы все равно нашли бы друг друга.
В этом была мудрость, и исходила она, наверное, от старика Александрова. Мы иногда бывали в его пропахших тленом комнатах. Там окна выходили в сад, и тени деревьев, мерно раскачиваясь, двигались и ползли по стенам и полкам, заставленным древними книгами.
Мы тогда не знали, что его имя давно известно в мире, и письма к нему из разных стран заполняли большой, закрытый на ключ кованый сундук.
Сундук стоял в сенях, и, встав на него и чуть подтянувшись и изловчившись, можно было попасть в небольшой чердачок над сенями, где некогда владелец дома Гальберпггадт держал голубей.
Из полукруглого окна голубятни как-то по-особенному выглядел наш заросший одуванчиками двор, столетний тополь, цветущий каштан и сидящий в его тени старик Александров. Он курил трубку, и голубоватый дымок, не торопясь исчезнуть, плавал у козырька его летней кепки. Он почти не вынимал трубку из сиреневого влажного рта, и борода его от старости или от дыма была зеленоватой. Он тяжело ходил. Широкий и длинный летний балахон и мешковатые брюки плохо скрывали запущенную до фантастических размеров грыжу.
Забравшись в голубятню, мы с Севкой уходили в страну своей самостоятельности, и цветущие свечки каштана виделись нам парусами уносящихся вдаль кораблей. Это открытие я сделал совсем недавно, и Севка согласился с ним.
Согласился со мной и Александров. Я сказал ему, что не хочу больше называть соцветия каштана свечками.
— Какие они свечки? Они — паруса! Смотрите, как наклоняются они под ветром, как несутся, как надувает их ветер, как плывут под ними в заморские страны, доверяясь им, корабли!
И Александров согласился со мной и сказал, что так можно тоже увидеть.
Он все сосал свою трубку. Синеватый дымок копился под козырьком его летней кепки, и сквозь него и стекла очков из-под седых бровей на меня смотрели спокойно, но чуть с болью его глаза. Спокойно он смотрел потому, что был мудр, и в попавшейся мне много позже энциклопедии было сказано, что он писатель и философ. Наверное, поэтому он смотрел спокойно. Но во дворе и в городе шепотом говорили, что в Минске арестован его ученый сын…
Он согласился с моими парусами. Потом поднялся, вытащил из кармана жилета большие часы на цепочке и сказал, что пора работать. Наверное, это он одаривал наш двор мудростью, и поэтому в нашем просторном дворе жили умные люди.
Севкин отец был адвокат. Его профессия требовала ума. Его звали Александр Кузьмич. Севкина мама тоже была Александра. Она преподавала немецкий язык в школе. Она была добра и умна.
Это они, Севкины родители, увели меня, обезумевшего, в ту зимнюю ночь к себе…
Но сейчас весна, и все это случится после, и до этого пока далеко…
Сейчас весна, и майские жуки, весело гудя, кружат над каштаном, надо мной, над Севкой, над Александровым и над этой историей с сундуком, в котором лежали письма из разных стран.
Она могла окончиться позором, эта обыкновенная и малозначительная на нынешний усталый взгляд история. Но в ней был добрый конец, и поэтому она жива в моей памяти, и, коснувшись ее, я отчетливо вижу тот день, когда мы с Севкой, насытившись лазаньем по чердакам и открытиями в их таинственных полутемных глубинах никому не нужных сокровищ, задумались над содержимым кованого сундука. Слишком долго он стоял привычным, но неведомым в сенях, откуда с его помощью, проявив сноровку, можно было попасть на голубятню.
Нужно сказать, что к тому времени у нас с Севкой появился еще один вид развлечений. Сейчас трудно объяснить, чем была вызвана эпидемия этого развлечения, но и в других концах города можно было часто наткнуться на снятые с петель ворота и калитки. Мы ограничивались несколькими недалекими от нашего двора кварталами, но и этого было достаточно, чтобы родители, обеспокоенные нашим нарастающим хулиганством, приняли соответствующие меры.
Мой отец, посоветовавшись с мамой, стал чаще брать меня с собой в пожарную команду, увлекал книгами, хвалил мои рисунки. А Севкины родители, надеясь на занимательность полезного труда, который мог отвлечь от лазанья по крышам, скачек верхом на козах и этого совсем преступного снимания с петель ворот и калиток, купили сыну набор рабочих инструментов.
Эти стамески, молотки, дрели, лобзики и клещи сыграли свою роль.
С помощью этих полезных инструментов, купленных с целью отвлечения от неблаговидных, но не столь опасных для общества поступков, мы совершили бандитский взлом чужого кованого сундука. Так квалифицировал наше деяние Севкин отец, работник юстиции адвокат Петкевич.
Он застал нас, когда мы, совершенно опьянев от удивительных марок на пожелтевших конвертах, потрясенные их количеством, забыв о пути, которым мы до них добрались, все более сатанея, рылись в сундуке. Я так и не узнал, сходил ли Петкевич за моим отцом, или он сам, разыскивая меня, оказался в этих сенях. Во всяком случае, когда мы с Севкой оглянулись, они стояли рядом и были очень похожи. Так их объединяло молчаливое негодование. Они стояли молча над нами, а мы, не разгибаясь, застыли над сундуком, и в руках у нас были пачки писем из разных стран.
Наверное, поучительное это было зрелище: двое преступников, застигнутых врасплох правосудием. Они так и назвали нас преступниками и объявили, что нас нужно судить.
Мы уже выпрямились, повернулись к ним и, почему-то не выпуская вороха писем из рук, смотрели на их гневные, но родные лица. А они, не перебивая друг друга, по очереди, каждый в меру своего возмущения, оценивали наш поступок.
И когда Севкин отец, адвокат Петкевич, профессионально квалифицировал совершенное нами как бандитский взлом и даже назвал статью Уголовного кодекса, которая вполне касалась нас, а мой отец с горечью сказал, что его сын растет взломщиком, в сенях, дымя трубкой, появился Александров. Он появился в тот момент, когда мы с Севкой уже смирились с предъявленным обвинением и, усвоив его, готовы были принять заслуженную кару.
— Идемте ко мне, — сказал Александров, — я научу вас, как отделять от конвертов марки, не испортив при этом их зубцы.
Он увел нас в свои пропахшие тленом комнаты, и мы долго и спокойно вырезали из конвертов куски, где были наклеены марки, опускали их в теплую воду, ждали, пока марки отлипнут и сушили их на стекле. Покончив с ворохом писем, мы шли в сени, и извлекали из сундука новые пачки, и несли их к Александрову.
А наши отцы стояли в сенях и курили. Потом они вышли во двор, сели на крыльцо у каштана и опять закурили. А мы были заняты делом.
Мы были заняты делом не один день. У нас появилась коллекция марок. В ней были марки разных стран, и на многих из них по неведомым морям неслись корабли, и наполненный брызгами ветер надувал их косые паруса, подхватывал нас с Севкой и уносил на тугих зеленых волнах в заморские страны.
И косые цветущие паруса на нашем каштане тоже неслись вслед за нами, и у нас не было в этом никакого сомнения.
Цветущие паруса неслись вдаль еще четыре весны.
Еще четыре весны в тени каштана будет дымить трубкой и слушать полет майских жуков старик Александров.
Известно, что за несколько месяцев до того, как спилили каштан, в веренице уходящих в сторону Каменского рва будет медленно двигаться Самуил Александров.
Он был очень стар, и ему мешала тяжелая грыжа. Но его поддерживали под руки Мейша и кривоносый Мостков.
Рассказывают, что через несколько дней, непонятно как, он сам добрался до нашего опустевшего двора и просил соседку Пашу спасти его книги. Она обещала.
И он спокойно, только часто останавливаясь, ушел в сторону Каменки.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
По пути на дежурство мой отец заходил в Клуб красных партизан и подпольщиков.
…Они часто встречались в этом небольшом белокаменном здании на улице имени Карла Маркса, напротив двора, откуда доносилось мерное постукивание каменотесов.
Они еще ничуть не состарились, потому что, на их взгляд прошло не так много лет, и война с белополяками была не такой уж давней войной, и самый старый из них, председатель клуба Арбузов, был вполне бодр и крепок, только почему-то ходил с толстой суковатой палкой, которую большую часть времени таскал за ним в слюнявой пасти огромный кобель основательно запутанной и непонятной породы. У кобеля была кличка Пилсудский, на которую он вполне серьезно и достойно откликался густым простуженным лаем, предварительно освободив пасть от своей почетной ноши.
Они ничуть не состарились, и время, когда они готовы были умереть за новую жизнь, еще не покидало их.
Но, странное дело, несколько членов их клуба, за которых каждый из них мог поручиться головой, явно по какой-то ошибке были подняты с постелей и увезены в темную, как тайна, ночь.
Это случилось еще в марте, и Арбузов уверенно и возмущенно пошел к Грозному Шендерову за правдой.
Он оставил Пилсудского с суковатой палкой на улице и вошел в этот угловой двухэтажный дом, который уже давно бобруйчане обходили стороной, а если выпадала необходимость пройти мимо, мышью перебегали на другую сторону улицы и, втянув голову в плечи, не оглядываясь, торопились скрыться.
Грозный Шендеров, не поднимаясь из-за стола, предложил Арбузову сесть и долго шелестел какими-то бумагами. Арбузов был человеком решительным и не стал дожидаться окончания этой возни, а прямо спросил, куда девали его честных хлопцев. Грозный Шендеров еще повозился со своими бумагами, потом посмотрел пустыми, даже побелевшими глазами на Арбузова.
…Пилсудский, ожидавший хозяина на улице, был, наверно, удивлен, когда тот вырвал из его пасти палку и, колотя ею по мостовой, зашагал на самой ее середине, не обращая внимания на случайный транспорт. Лицо его пылало. Он матерился.
Пилсудский забежал в чей-то двор, помочился на сарай, подобрал обломок кирпича и с кирпичиной в пасти догнал хозяина.
С тех пор Клуб красных партизан и подпольщиков недосчитался еще троих своих членов. Их тоже забрали ночью. И тогда Арбузов пошел к Главному Начальнику, и у них получился разговор по душам.
Главный Начальник разъяснил отставшему от обстановки в стране честному, но живущему устаревшими понятиями Арбузову, на какие уловки пускаются враги народа, и как нужна всегда бдительность, и как всегда нужно быть начеку.
Главный Начальник был откровенен с Арбузовым и привел ему пример того, как враги народа забираются на самые ответственные посты. Он спросил, знал ли Арбузов Гершона, тоже в прошлом подпольщика. И когда Арбузов ответил, что гордится этим мужиком, сыном рабочего, который стал заместителем наркома просвещения, Главный Начальник улыбнулся, положил свою ладонь на волосатый кулак Арбузова, похлопал по нему несколько раз, секунду помолчал и, стараясь сразить, выпалил:
— Он оказался врагом народа и вчера арестован!
Главный Начальник не сразил Арбузова, но, почувствовав в нем какое-то замешательство, встал из-за стола и, направляясь к двери, обнял его за плечи и добавил:
— Вот так-то, дорогой партизан! Думать надо! — и крепко пожал ему руку.
Наверное, война с белополяками была действительно недавней войной, и никого не удивляло, что во дворе у пожарников нашел свой приют бронепоезд. Где-то оставив до будущих времен колеса и одетый в броню паровоз, его грозная махина с установками для пулеметов и пушек улеглась и застыла во дворе пожарной команды. На его клепаной броне запекшейся масляной краской было написано: «III Интернационал».
Говорили, будто бы Славин мечтал каким-то образом перетащить этого свидетеля гражданской войны во двор музея, но тогда пришлось бы распрощаться с редкими саженцами, цветами и чудом выращенной соей. Победила соя, и грозная бесколесая махина так и осталась на самом большом дворе Пожарного переулка.
По пути на дежурство в пожарную часть мой отец навещал Клуб красных партизан и подпольщиков. Он бывал в клубе недолго, а потом уходил дежурить туда, где в любое время суток мог раздаться сигнал пожарной тревоги. В любое время, днем или ночью. Ночью страшнее.
Наверное, поэтому я стал часто просыпаться ночью. Моя кровать стояла в его комнате вдоль стены, за этажеркой, на которой раньше лежали кипы старых журналов.
Я прислушивался к темноте и, не услышав лихорадки пожарного колокола, видел, как катил по рельсам в тревожную ночь войны с белополяками, строча из пулеметов и громыхая на невзорванных мостах, застывший во дворе бронепоезд.
И когда вражьи пули особенно густо и зло, поддержанные рвущимися снарядами, беззвучно, как мыльные пузыри, ударялись о клепаную броню, в одной из амбразур появлялось лицо комиссара полка семнадцатой дивизии Перловского, спасенного от смерти молодым и отчаянным Исааком.
Раздвинув броню, Перловский выходил к Исааку и обнимал его, как тогда в лагере военнопленных, и говорил, что он его всегда помнит. Отмахнувшись от пуль, он прикладывал ладони ко рту и, наверное, перекрывая неслышный грохот боя, звал к себе всех остальных спасенных от смерти Исааком и его товарищами.
И все двести шестьдесят спасенных красноармейцев, собравшись в бессмертный отряд, принимали в него Исаака и вручали ему винтовку, и они все, вместе с одетым в потертую кожаную куртку комиссаром Перловским, бросались в бой за Советскую власть и Новую жизнь.
И я знал, что они ее защитят, и мой сон становился спокойней.
В середине лета начальник пожарной охраны города Винокур пригласил в свой кабинет моего отца. Они были друзьями, но обращались друг к другу на «вы». Так бывает.
— Исаак, — сказал Винокур. — Я хочу вам доверить пожарную безопасность «Белплодотары» и фабрики имени Халтурина. Объекты почти рядом. Вы вполне справитесь с этой работой, ну и зарплата ваша станет значительней, у вас ведь двое детей.
Он улыбнулся, и Исаак тоже ответил ему улыбкой.
Был погожий день середины лета. Из открытого окна доносились грачиный галдеж и шум базарной площади. Ветерок шевелил занавески, и солнце, нагрев подоконник, освещало двух добрых людей, стол с папками и бумагами и стену с планом города и картиной в деревянной раме.
На слегка потрескавшейся картине был изображен пожар 1901 года, когда от искры паровоза загорелся дом у железной дороги и огонь, перекинувшийся на соседние дома, подхваченный ночным ветром, уничтожил центральную часть Бобруйска. Языки пламени на картине были исполнены густой оранжевой краской и брошены на холст лихой и уверенной рукой. В правом нижнем углу картины, среди мазков и трещин, можно было различить слово «Рондлин».
Картина была заказана Добровольным пожарным обществом к одному из его юбилеев и явно относилась к раннему периоду творчества художника Рондлина.
Солнце освещало двух добрых людей. Они были друзьями, но обращались друг к другу на «вы». Наверное, причиной этому была разница в возрасте, в положении на общей службе, может быть, укоренившаяся привычка или, скорее всего, какое-то трогательное взаимное уважение, не позволявшее перейти едва ощутимую черту, за которой могло случиться панибратство, способное погубить всю ясность и душевность их отношений.
Они встали из-за стола и подошли к плану города, на котором «Белплодотара» была действительно рядом с фабрикой имени Халтурина. Их разделяли только Шоссейная улица и не обозначенное названием небольшое серое пятно.
Они стояли в залитом солнцем кабинете Винокура, у стены, на которой висели план города и картина с пожаром кисти раннего Рондлина.
За окном горланили грачи и плескался всеми живыми звуками разноголосый базар.
Этот долетавший до их слуха привычный и понятный шум, это дыхание жизни делало неслышным скрежет приближающегося, уже испачканного кровью колеса, которое умные люди называют колесом истории.
Наверное, сливаясь своим дыханием с дыханием жизни, они тогда не почувствовали, как тяжело и надсадно, выбирая свои жертвы и назначая причины их гибели, дышит Время.
Разве могли они знать, что через какие-то считанные дни будет арестован и исчезнет их общий друг, директор музея Славин?
И кому из них могло прийти в голову, что какие-то тюбики красной краски, окунув художника Рондлина в написание бесконечных Марксов, приведут его к дерзкой мысли создать гигантского фанерного Кормчего, и одно только строительство каркаса для этого монумента загубит многих невинных ротозеев, а после и сам Кормчий непонятной и мрачной силой, исходящей из бревен и размалеванной фанеры, уничтожит не одну жизнь, прихватив напоследок, в день своей порчи, веселых трубочистов Чертков?
И кто из них мог поверить в то, что назначение моего отца на новую работу окончится трагедией, отголоски которой тупой и затаенной болью до сих пор не покидают меня?..
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
У «Белплодотары» было простое и понятное название — «тарный завод». Но бобруйчане, относясь с уважением к производству ящиков для яблок и бочек для квашеной капусты, величали тарный завод «Белплодотарой». Как-то значительней и весомей звучало это сложное слово, написанное мелким шрифтом на вывеске, украшавшей вход в заставленный ящиками и гулкими бочками двор.
Ящики сколачивали под двумя навесами, а бондари трудились в продолговатом невысоком бараке. Так бы и трудились умельцы-бондари, если бы дневной сторожихе Вайсман в выходной день не пришло в голову проверить исправность топки в бондарном цехе…
Почему ей пришла в голову такая мысль, следователям установить не удалось. Впрочем, они вскоре отстали от нее и, принимая во внимание ее возраст и значительную глуховатость, выпустили старуху временно до предстоящего суда.
Весьма гуманное течение следствия несло в себе какие-то тайные и хитроумные умозаключения, в ходе которых обозначился главный преступник и предполагаемый план его действий. Местоположение двух объектов, находящихся под его контролем, и их восприимчивость к быстрому возгоранию при задуманных поджогах явно обличали его как исполнителя крупной и хорошо подготовленной диверсии.
Цель диверсии была определена на третьи сутки после ареста исполнителя этого коварного плана. Правда, он не сознавался и молчал, но это еще больше подчеркивало все ухищрения его преступного замысла.
Диверсия была вполне осуществима, так как преступник, якобы отвечая за пожарную охрану «Белплодотары» и фабрики имени Халтурина, знал на этих объектах самые огнеопасные, легко воспламеняющиеся места и, совершив их одновременный поджог (если бы это ему удалось), создал бы очаги пожаров с двух сторон расположенной между ними государственной следственной тюрьмы, надеясь уничтожить огнем этот крайне важный в борьбе с врагами народа недавно переоборудованный и усовершенствованный комплекс.
Были бы мы с Севкой постарше, может быть, и мы оказались бы пособниками в этой хорошо задуманной диверсии. Но мы до этого еще не доросли.
Мы приходили в «Белплодотару» и с разрешения моего отца и умельцев- бондарей катались на пустых бочках. И это оказалось гораздо труднее, чем скакать верхом на перепуганных козах, — там мы даже умудрялись на полном скаку одной рукой ухватиться за козье вымя и обрызгать друг друга живым молоком.
С катанием на бочках было сложнее. Здесь нужна была особая сноровка, и, как мы ни старались подражать заезжим цирковым артистам, бочки выскальзывали из-под наших ног, и мы падали на землю.
Первым овладел цирковым искусством Севка. Он всегда был ловчей и спортивней меня. К тому времени, когда я уже мог, быстро перебирая ногами и с трудом удерживая равновесие, прокатиться несколько шагов, Севка легко и красиво, крыльями раскинув в стороны руки, катил под аплодисменты бондарей по всему двору «Белплодотары».
Мы бывали и на фабрике имени Халтурина и видели, как мастера собирали модную новинку — платяной шкаф «Мать и дитя». Нам нравилось вдыхать запах дерева, столярного клея и лака.
И нам нравилось, с каким уважением люди обращались к моему отцу Они уже все умели работать с огнетушителями и знали, что нужно делать в случае беды.
Там, где устроилась «Белплодотара», с незапамятных времен сколачивали ящики, и умельцы-бондари творили гулкие бочки.
И Шоссейная, минуя в своем стремлении на запад мосток через неблагозвучную банную речку, шлагбаум и изгиб железной дороги, охотно принимала в свои обочины полезную естественность мармеладной фабрики, бочек «Белплодотары» и нехитрой мебели фабрики Халтурина.
Но в эту мирную и добрую естественность, в этот пропахший антоновкой и струганым деревом край забралось не обозначенное на плане города серое пятно…
Если бы не это чужеродное пятно, если бы не глухие высокие стены, за которыми скрывалась переоборудованная для новых государственных задач бывшая трудовая колония, Шоссейная так бы и осталась милой улицей моего детства, в конце которой всегда садилось солнце, где были сад Белугина и дом Нехамы и Шмула.
Но этот чуждый живому, мрачно затаившийся комплекс улегся вдоль Шоссейной, отгородился от нее непроницаемыми стенами и только ему ведомыми способами оправдывал свое государственное назначение.
Его уже перестали называть «справдомом», а горько, с какой-то болью и отвращением, называли тюрьмой. С болью потому, что уже мало оставалось домов, откуда не увели или не увезли за эти сгены в чем-то обязательно виновных людей.
И оставшиеся на свободе, обреченные на бессонные ночи, каким-то звериным чутьем догадывались, что там, за этими стенами, добиваясь нужной истины, калечат и бьют.
Я не видел, как забирали Исаака. Это было днем. Какое-то нарушение в повадках команды Зубрицкого, что-то новое в их темном, ночном, отработанном на многих арестах механизме.
Забрав моего отца, они, как вороны, кружили над ним, что-то обдумывая и решая, зачем-то совершая непонятные поступки, и наконец, избив его на допросе, вдруг разрешили передать на волю записку маме вместе с ненужной, липшей, как он писал, его одеждой и просьбой перешить ее для меня: «… передаю лишнее, мне ненужное…»
А он задумал свое. Ведь он мог не выдержать и наговорить то, что от него требовали. Но он держался и молчал или отвергал всю черную нелепость их обвинений.
И они его били.
Я не видел, как его забирали, потому что это было днем в начале сентября, в выходной день, и мы с Севкой и его отцом были на рыбалке.
Я не видел, как его забирали, но я видел, как мама и маленькая Соня, обнявшись, плакали в его комнате, где стояли моя кровать и этажерка, на которой раньше лежали старые журналы.
Они плакали, как плачут по покойнику и мама каким-то сдавленным голосом сказала:
— Вот и в наш дом пришла беда.
В середине сентября я ушел из города. Я шел искать Исаака. Я знал, что его там нет, что он в тюрьме, но я хотел быть с ним, и я внушал себе, что мы встретимся в обгоревшем лесу, недалеко от старообрядческого кладбища, на Могилевском шоссе.
Был тихий и солнечный день, и я представил, что мы идем с Исааком, что всё — как было до того страшного дня, когда его увели от нас, когда еще мрак не вошел в наши комнаты и мама улыбалась, а маленькая Соня обнимала Исаака, и он говорил ей, что она лечит его душу.
Я представлял, что мы идем вместе с ним. И поэтому я знал, что нужно пройти через нижний базар, где торговали картошкой и луком и где стояли телеги балагул и жевали овес из подвязанных мешков их украшенные лентами битюги.
Я знал, что он подошел бы к балагулам и хохотал бы вместе с ними над их солеными шутками, и они бы угостили его своим куревом, а он отдал бы им свою едва начатую коробку «Борцов».
Он, наверное, сказал бы мне, что вон тот в плоской кепке плечистый и толстоносый балагула в длинном засаленном дождевике, из-под которого выглядывает такой же красный, как его обветренное лицо, свитер, и есть Пейша Ришес — самый жилистый и живучий из бобруйских балагул, и пока он есть, никакие напасти не искоренят здоровый дух города.
Но Пейша был почему-то хмур и вроде растерян. Он был без коня и, наверное, чувствовал себя моряком, вдруг выброшенным на постную, без соли и перца сушу. Пейша был хмур и рассказывал балагулам, что у его битюга случился паралич на задние ноги и нужно покупать другую лошадку.
— И у Пейши беда, но он выплывет, — сказал бы Исаак, и мы пошли дальше…
И еще послышалось в толпе, как одна женщина утешала другую: «Подумаешь, муж! Я двоих похоронила… И хоть бы что… Могу д третьего… Если бы был».
Мы с Исааком улыбнулись.
Мы бы улыбнулись… Мы бы даже рассмеялись. И после Исаак, как анекдот, пересказывал бы слова этой утешительницы.
А потом я шел с ним мимо хлебозавода, и теплый хлебный дух сдабривал уже осенний, приправленный запахами сена и яблок воздух. И Исаак обязательно сказал бы, что нет ничего на свете лучше запаха свежего хлеба и нет прекраснее поры, чем этот задумчивый сентябрь.
Так мы шли вместе до самого деревянного моста с башенками и перилами, а потом, уже с другого берега, оглянулись на крепость. И я захотел почувствовать и сжать его руку…
Но я все равно представлял, что мы идем вместе.
Так, вместе с ним, мы перешли второй деревянный мост над затоном и оказались на обсаженной тенистыми ивами дороге, по которой весной Степка Воловик бешено гнал пожарную машину.
Здесь было ветрено, и начинающие желтеть ивы тревожно шумели. Вдруг вспомнилось, как Славин рассказывал, что ивы бывают полевые и болотные, а эти, вдоль наших дорог, — ивы-ракиты. И еще есть какая-то ива… Как называется эта еще какая-то ива?.. Нужно спросить у Славина…
Мне стало вдруг невыносимо одиноко, потому что Славин был арестован и его друг, мой Исаак, тоже был в тюрьме, и я один стоял в тени безлюдной дороги, над которой тревожно шумели ивы-ракиты.
И я понял, что не пойду туда, в обгоревший лес, потому что не встречусь там с Исааком, и горькая мысль, что все неповторимо и невозвратно, впервые посетила меня.
Я не пошел дальше, а только смотрел, как из этой тени расплавленно горят луга, как зеленое перестает быть зеленым и плавится на солнце, как сгустки ушедшего августа полыхают в осоке и стогах полнокровным жарким сплавом, и среди него вдруг изумрудно-голубые, пронзительно-синие удары болотинок, заводей и самой Березины.
Какая невероятная синь, радостная, звонкая! Но где-то, в каких-то своих потаенных глубинах и поворотах, она начинает тревожно сгущаться, мрачнеть, далеким гудком ушедшего поезда ранит сердце, и среди остановившегося сентябрьского тепла невольно чудятся клекот улетающих журавлей, звон замерзающей земли, запах дымка и падение первого снега.
Вы читаете: Предисловие. Пролог ❑ Главы 1-5 ❑ Главы 6-10 ❑ Главы 11-15 ❑ Главы 16-19 ❑ Главы 20-23 ❑ Главы 24-26
На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) Абрам Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Это не просто книга. Это живая история, иллюстрации к которой – картины Абрама Рабкина