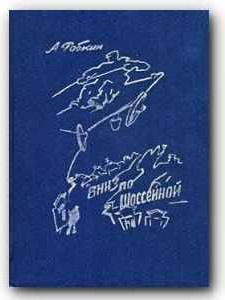
Предисловие
Пролог
Главы 1-5
Главы 6-10
Главы 11-15
Главы 16-19
Главы 20-23
Главы 24-26
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Директор швейной фабрики имени Дзержинского сдержал свое торжественное слово и сшил из отходов производства новые фуражки для городских сумасшедших. Фуражки были светло-серые, с большими модными козырьками и круглыми нитяными помпонами на макушке. Правда, в связи с тем, что явка сумасшедших для снятия мерок не была обеспечена, фуражки сшили одного стандартного и, на всякий случай, большого размера.
Выдавали фуражки по списку, в который почему-то попал и великан Адам. Но Адам за фуражкой не явился. Не потому, что был обижен на то, что его внесли в этот список. Адам исчез и больше в Бобруйске не появлялся.
Наверно, никого в городе особенно не беспокоила причина исчезновения Адама. Хоть и был он великаном и заметной фигурой на базаре и пристани, как-то не до него было в это уже вплотную надвинувшееся на город Время. Больше говорили, и то шепотом, о новых арестах, раскрытых диверсиях и затаившихся за каждым углом замаскированных врагах.
Но нам, умудренным познанием прошлого, нашему не заглушенному этим боязливым шепотом слуху, нашему трезвому, проясненному болью зрению нужно побывать на бобруйском базаре в конце августа того года и увидеть в последний раз Адама.
Он стоял на Нижнем базаре недалеко от того дома, где когда-то тетка Зины Гах держала харчевню, а хозяин дома торговал дегтем. Теперь там был «Индпошив», украшенный вывеской работы Бори Вихмана. Неподалеку сапожники, набрав в рот «тэкса», поколачивали молотками по насаженным на лапу кривым каблукам и прохудившимся подошвам.
Адам стоял и улыбался солнечному дню и пацанам, собравшимся возле него, чтобы по очереди проскочить через ворота его широко расставленных длиннющих ног. Он весело, как и пацаны, относился к этой забаве, когда был свободен от перетаскивания тяжестей.
К нему, обходя ряд продавцов плетеных корзин и метелок, как-то таинственно подмигивая, шел Боря Вихман.
Боря Вихман разогнал пацанов и поздоровался с Адамом. Адам тоже сказал: «Здравствуй, Вихман», и вытащил свое разрешение. Но Боря отвел его руку и объявил, что уже больше недели разрешение считается недействительным, так как выдано оно Славиным, а Славин, как стало известно, враг народа. Поэтому, добавил Боря Вихман, этот написанный Славиным документ нужно не носить при себе, а уничтожить, потому что, если найдут его при Адаме, может загреметь и Адам, несмотря на свой редкий, нужный для Академии наук скелет.
Адам растерянно смотрел на Борю Вихмана и торопливо прятал свое разрешение уже не в боковой карман сшитого Степанидой пиджака, а за ворот рубахи, подальше от тех, кто мог его обнаружить и отнять.
Адам растерянно смотрел на Борю Вихмана, а тот, довольный своей злой шуткой, добавил:
— Что поделаешь, Адам, сейчас время такое — вырыл норку, окопался, и ша!
И Адам испуганно шарил глазами по снующим ногам толпы, выискивая просвет в двигающихся сапогах, лаптях, сандалиях, ботинках, парусиновых туфлях, где среди булыжников можно было вырыть норку, окопаться и замереть. Но он понял, что для себя ему такой норки здесь не вырыть.
И Адам исчез.
…Когда однажды на базаре, уже в конце сентября, кто-то вспомнил о великане, одна бабка, продававшая вязку сушеных грибов, сказала, что видела его в Елизовских лесах, но мужик, время от времени отпивавший из бутылки, отмахнулся от нее и сказал, что сам промышляет грибами и в эту грибную осень каждый день бывал в тех лесах и не раз встречался там с лосями и, конечно, бабка, по своему давнему, да еще давно забытому и затуманенному годами девичьему разумению, спутала лося с мужиком. На что окружавший грибников базар грохнул раскатистым смехом, а мужик еще отглотнул из бутылки, для чего ему пришлось высоко задрать бороду и взболтнуть остатки жидкости, уже хмелея, добавил:
— Никакие Адамы в лесу не водятся.
Невостребованную модную фуражку с нитяным помпоном передали в отдел заказов фабрики имени Дзержинского, и она долго висела в витрине с надписью «Образцы». Потом, говорят, образцы тех лет передали в музей фабрики. Если такой музей еще существует, может быть, она хранится там и поныне.
А городские сумасшедшие, расписавшись, как могли, в списке на выдачу к Великому Юбилею бесплатных фуражек, остались довольны, и некоторые из них были даже счастливы. Наверное, были бы счастливы все оказавшиеся в этом списке, если бы им объявили, а лучше разъяснили, что именно с них, с раздачи этих фуражек, начинается ряд праздничных городских мероприятий.
…Ну и куда бы вы думали, направились сумасшедшие?
Наверное, вы догадались. А если вы думаете, что они разошлись по своим постам, то есть Меер, прифрантившись роскошной фуражкой и застегнув по этому случаю ширинку, опять станет у кино «Пролетарий», а обозревающий мир через свою вставленную в глаз копейку сумасшедший по кличке Акопике усядется на Социалистической у магазина, где директором Столин, и, красуясь своей наползающей на нос и тем самым мешающей его ясновидению праздничной фуражкой, будет сообщать прохожим о ценах на розы в Париже и о листопаде в Берлине, словом, если вы думаете, что все сумасшедшие, украшенные новыми фуражками, разойдутся по своим обычным делам, — то вы плохо думаете о наших сумасшедших.
Не такие они уж совсем глухие к нормальным понятиям — сумасшедшие. Они очень отзывчивые и понимающие добро люди, и если к ним все время относиться ласково и поддерживать их каким-то добрым делом, то они, осчастливленные праздничным подарком, обязательно придут к вам, чтобы поделиться своей радостью, чтобы и вы порадовались вместе с ними.
Теперь вы все поняли и догадались…
Да, они поодиночке, конечно, не все сразу, пришли в парикмахерскую к Абраму Гершковичу.
— Ничего, можно носить, только не очень мотайте головами, — сказал Абрам Гершкович, устроив на каждом сумасшедшем по-разному, на подходящий манер и загиб, праздничные фуражки.
— Ну а теперь, как только я освобожусь, я начну приводить вас в порядок, — ласково объявил парикмахер и пошел добривать клиента, на щеках которого давно высохла мыльная пена.
…Весело, во все свои птичьи голоса заливались канарейки, что-то напевал Гершкович, шелестели газетами, в ожидании своей очереди, сумасшедшие, и все могло бы окончиться мирно и хорошо, если бы не было этой ссоры. Но не случись этой ссоры, о которой еще и сейчас вспоминают с улыбкой старожилы, — не произнес бы сумасшедший Мома своих знаменитых слов, до которых не всякий мудрец может додуматься, и случись, вникни в их смысл человечество, может быть… Да что там говорить, человечеству уже не раз об этом говорили, но Мома додумался до этого сам и даже не обратил внимания на то, что он произнес….
Ссора вспыхнула внезапно, и после трудно было установить, кто был ее зачинщиком. Может быть, в газету, чем-то заинтересовавшую сразу двоих сумасшедших, одновременно вцепились четыре руки, и газета была порвана, а кто-то из наблюдавших за этими руками ударил по ним и выразил свои чувства бранью, а потом и его обругал кто-то, до этого безучастно следивший за мухой на потолке, — но разгорелась шумная ссора с криками и непонятными доводами, переходящими в визг и даже плач.
И, испуганные этими криками, умолкли канарейки. И, выпрямившийся во весь свой могучий рост парикмахер Гершкович, которого не могли испугать самые разгулявшиеся, самые опасные языки пламени, парикмахер Гершкович, который участвовал в покорении почти всех случившихся в городе пожаров, растерянно стоял с бритвой в руке в этом кагале, устроенном недавно мирными сумасшедшими. А недобритый клиент выскочил на улицу и стал звать на помощь прохожих.
И тут поднялся Мома. Он один по своей привычке до этого молчал.
Он поднялся и сказал по-еврейски: «Стылэр», что означало: «Тише». Он сказал это негромко, но они сквозь свои крики услышали его и вдруг стихли.
И тогда он сказал по-русски:
— Что мы ссоримся! Ведь мы все носим одинаковые шапки.
И они помирились. И эти слова услышали все, даже те прохожие, которых позвал на помощь недобритый клиент.
Эти знаменитые слова иногда вспоминают бобруйчане. Их по-своему, но с тем же смыслом часто произносят очень умные люди. Правда, по-настоящему и сразу они подействовали только на бобруйских сумасшедших в том давнем году в парикмахерской Абрама Гершковича.
И кто бы ни присваивал себе эти слова и эту мудрую мысль, впервые высказал ее и тут же добился результата грустный сумасшедший Мома, который всегда носил под мышкой стопку книг и в глазах которого за стеклами пенсне блуждала вечность.
…И в наступившем мире снова запели канарейки, и Абрам Гершкович улыбнулся и стал приводить сумасшедших в порядок.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Я не видел, как забирали Исаака, но ночью, проваливаясь под тяжестью тоски в какую-то черную пропасть, больше похожую на временную смерть, чем на обычный сон, я вдруг приходил в себя, испытывая отдаленную и все нарастающую боль в голове, позвоночнике и словно переломанных ребрах.
Я знал, что это бьют моего Исаака.
И я стонал вместе с ним. И мама шла ко мне. Она тихо входила в его комнату, где стояла моя кровать, и склонялась надо мной. Она успокаивала меня, но я чувствовал, как ее слезы частым теплым дождем падали на мое лицо, смешиваясь с холодным потом почудившегося мне ужаса.
Не помогало и утро.
Стояла глубокая осень с унылыми дождями, мучительно долгими, не приносящими облегчения рассветами и остановившимися на одинаковой безнадежности днями.
Уже давно, раскалывая о тротуары Социалистической игольчатую пожухлую кожуру, упали каштаны, и смугло-коричневые красавцы катыши, попрыгав по лужам, оказались игрушками в карманах пацанов или осели между оконных рам готовящихся к зиме жилищ.
Уже сгребли в невеселые груды последнюю листву, и она, полежав, чернея, под дождями какое-то время, вскоре исчезла.
Уже не дальней была зима.
Мой отец, задумав свое, уже передал маме записку и лишнюю, как он писал, не нужную ему одежду Он просил перешить ее для меня, и текст этой записки протяжным эхом все звучит и звучит во мне, то утихая, то внезапно, порой неуместно, причиняя боль, заполняет мое сознание.
Они требовали, чтобы он признался в поджоге «Белплодотары» и еще, что уже совсем пустяк, рассказал о плане несостоявшегося поджога фабрики имени Халтурина.
Они что-то недоговаривали.
У них были изощренные головы и тяжелые сапоги.
Они уже отбили ему почки и, уводя следствие в сторону, вдруг обвинили в связи с белополяками.
Он тогда плюнул в лицо следователю, а тот запустил в него тяжелой чернильницей.
Он чувствовал, что им нужно что-то большее, но они пока хитрят, делают его не способным мыслить, а потом, у раздавленного и слабого, добьются нужного им какого-то важного показания.
Не потеряв рассудка, он готовился к этому и думал о Славине. В городе говорили, что Славин арестован за хранение книг и журналов, подлежащих уничтожению. Эти старые журналы подарил Славину он. Почему они ни разу не спросили о журналах?.. Что-то задумали?.. Или… Он вдруг понял, что Славин никогда не сказал бы им, что эти журналы передал музею его друг Исаак.
Он правильно думал, но он не знал, что Славина судила «тройка». Ей нужно было убить Славина, и Время назначило для этого достаточно причин и без журналов…
Наконец следователи решили, что Исаак готов ответить на главный вопрос так, как это им нужно. И они его задали.
Он промолчал весь допрос. Потерял сознание, а когда очнулся в набитой людьми камере, отдал пайку хлеба тому лохматому «трохцисту» за оборы с его лаптей.
В команде Зубрицкого были изощренные опытные головы, они знали, что можно ускользнуть из их рук и нарушить паутину их хитросплетений при помощи брючного ремня, шнурка или подтяжек. Но они просмотрели оборы на лаптях испуганного и голодного крестьянина, озадаченного словом «трохцист».
Изощренные следователи, решив, что пора играть по-крупному, задали свой главный вопрос.
Они дали Исааку закурить и, доверительно глядя ему в глаза, тихо и сожалеюще, как разговаривают с оступившимся, но не виновным человеком, как-то вроде не придавая особого значения тому о чем спрашивают, произнесли… именно произнесли, потому что их было двое и, видно, им не терпелось получить этот безобидный и вроде бы даже естественный ответ — о сумме, вернее, о количестве золота, которое дал Исааку начальник пожарной охраны города за то, что он сожжет тюрьму…
Они так и сказали — просто, понятно и доступно даже для много раз избитого человека, который, ответив на этот вопрос, даже если и утаит какую-то часть золота для своей дальнейшей безбедной жизни на свободе, все равно получит эту свободу и уважение сотрудников команды Зубрицкого. Они так и спросили: «Сколько золота вам дал Винокур за то, что вы сожжете тюрьму?»
Исаак молчал.
Они его не били.
Наверное, от выкуренной папиросы куда-то поплыла и завертелась лампа с зеленым абажуром, качнулись и навалились на него стены подвала…
Он выменял у «трохциста» оборы и ночью затянул на шее петлю.
Он не помнил и не знал, кто и зачем не дал ему умереть.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
В ночь с четверга на пятницу на город рухнул снегопад. Еще накануне насупившееся тяжелое небо раньше времени затмило и без того ничтожно короткий день. Вначале одиночные крупные хлопья снега стали ускорять свое приближение к земле, постепенно множась, становясь все гуще, быстро превращаясь в сплошную, едва подсвеченную каким-то внутренним необъяснимым светом завесу. Странной была кажущаяся бесшумность этого беспрерывного движения, переходящего в падение низкого, обремененного густым снегом неба, на приближающуюся к нему своим уже плотным белым покровом землю.
Снег шел всю ночь. Снег шел всю пятницу. И только к вечеру снегопад, остуженный морозом, остановился. Но ночью задул юго-западный теплый ветер, нагоняя большую оттепель, и, не случись к утру снова мороз, кто знает, в какой распутице плавал бы город.
Мороз спас от распутицы, и ранним утром заваленный снегом город был красив и приглушенно тих. Кое-где поднимались дымки, заснеженные крыши сливались с небом и путаницей заиндевелых, отягощенных снегом ветвей и проводов. Все было в снегу. И какой-то чудак, с трудом отрыв в снежном завале у своего дома проход к улице, вытер лоб, оглянулся вокруг, замер и произнес: «Красота серебряная!..»
Примерно в то же время другой чудак, больше службист, чем поэт, тоже вылез сквозь сугробы из своего жилища в каменном многоквартирном доме вблизи городского театра и был удивлен тем, что на голове у гигантского Кормчего вместо известной полувоенной фуражки — тяжелая белая зимняя шапка.
Такого быть не могло, ибо в таком виде Великого Вождя не бывало. Зрелище это настолько потрясло службиста, что он в испуге, но и в каком-то зуде бдительности кинулся, как на подвиг, тараня грудью снег, туда, куда следовало.
Если бы этот службист не уперся глазами в зимнюю шапку Вождя, а опустил свой взор ниже, у него, наверно, подкосились бы ноги, а прочитав то, что натворила зима своим снегом, морозом и оттепелью, он, наверно, онемел бы или стал заикаться.
Скорее всего, прочитав это, он огляделся бы вокруг — не видел ли его кто-нибудь — и шмыгнул бы скорее к себе в квартиру, залез бы под одеяло и на вопрос жены, что с ним, ответил бы: «Знобит, и что-то нездоровится».
Зима, конечно, ничего дурного не желая, походя кое-что натворила с фанерным Кормчим и объемными, похожими на ящики буквами. В свое время Главному Начальнику, подавшему идею объемных букв, нужно было предвосхитить, проще говоря, подумать о том, что зима, которая может наступить после Великого Юбилея, способна сотворить такую пакость. Но не нам судить Начальство, тем более затерявшееся в том Времени.
Как вы помните, следуя идее Главного Начальника, руки Великого Вождя, вернее, его фанерной полуфигуры, лежали на штурвале, под которым вдоль всей плоской крыши над вестибюлем театра располагались большие объемные буквы, образующие три многозначащих слова:
РУЛЕВОЙ СТРАНЫ СОВЕТОВ.
И вот эта зима завалила съехавшей с крыши глыбой целых две объемные буквы, и выбор этих исключенных из общего смысла букв говорил о наличии злого умысла. Судите сами — под снегом пропала буква «р» в первом слове и буква «т» во втором. Получилось черт знает что!..
Вы, наверно, пожмете плечами?.. Но я, по долгу своего рассказа, живу в том Времени, и по мне пробегает озноб.
Бдительный службист уже, наверно, добрался туда, куда следует обращаться в таких случаях.
Да, он добрался.
Уже улицы оцеплены милицией, уже прибыли улыбчивый Саша и какие- то молчаливые люди в штатском. Улыбчивый Саша не улыбается, он растерян и кого-то ждет. Молчаливые люди в штатском, наоборот, стараются разговорить появившихся ротозеев, но загоняют их во дворы и парадные. Уже появились Главный Начальник и Грозный Шендеров, уже слышен мат Главного Начальника. Действительно, эта сраная пожарная команда никак не может выехать из своего тухлого переулка, снег, видите ли, им мешает, не проехать тупицам!
Милые мои трубочисты Чертки! Я все берег вас как добрую память о той встрече в начале зимы прошлого года, когда мы шли с Исааком к Винокуру и снежные вихри заметали землю, а вы, чумазые и веселые, со своими метелками и гирями на веревках, напоминали расшалившихся птиц.
Угораздило же вас оказаться в это время на заваленной снегом Социалистической улице, да еще с лестницей, которую вы тащили от дяди Гирсула к дому его беспомощной тещи. Вы же могли тащить эту лестницу по Чонгарской и тогда не попались бы на глаза всему этому начальству…
Что? Теща вашего дяди Гирсула жила на Социалистической? Я знаю эту тещу вашего дяди Гирсула, ее звали Доба, и у нее действительно текла крыша, когда наваливалось много снега, и всегда дымила печка, и вы давно обещали дяде Гирсулу помочь его теще Добе, но она ведь жила недалеко от Дома отдыха, почти у самой реки, и вы могли добраться до нее по Чонгарской.
Что? Вы хотели пройти ближе? Но это ведь можно было сделать завтра или вчера, но не сегодня, ведь сегодня суббота…
Что? Вы знаете, что сегодня суббота и вчера ваша мама, Рахиль Моисеевна, которая работает в загсе и будет работать там до тех пор, пока не запишет вас, веселых балбесов, с вашими девушками, ваша добрая мама, которая хочет вам только добра и немножко верит в Бога и поэтому соблюдает субботу, вчера истопила печь, чтобы приготовить цолунд — еду на субботу, и вас ждут «эсикфлэйс» и «кугул», и даже струдель к чаю, потому что вечером зайдут, наверное, Малка с Голдой, и мама надеется, что уже скоро, наконец, вы запишетесь.
Что? Ваша мама сделала все, как положено, она вовремя в пятницу обложила заслон в печке мокрыми тряпками, чтобы не выходил зря горячий дух, чтобы грели березовые угли еду на субботу. Она даже вчера вечером зажгла свечи и помолилась над ними, и вы хорошо знаете, что сегодня суббота, но вы обещали дяде Гирсулу сбросить снег с дырявой крыши его тещи и сделать так, чтобы перестала дымить ее печка. Но, может быть, это можно сделать без ваших круглых гирь? Зачем вы их взяли с собой?
Что? Они нужны в вашей работе? Но здесь будет совсем другая работа. Выбросьте ваши гири, — может, все обойдется…
Они не слышат меня и идут к городскому театру, над которым возвышается Великий Кормчий.
Они несут свою длинную лестницу, которую несли к теще дяди Гирсула, и вдруг повернули сюда. Попробуй не поверни… Ведь сам Главный Начальник приказал подключить этих кстати подвернувшихся молодцов с лестницей к ликвидации последствий снегопада. Лестница оказалась короткой. Но Шендеров приказал своим людям высадить дверь в вестибюле и вытащить из театра пару столов.
…Теперь высоты было достаточно, и Чертки оказались на крыше. Полетели вниз зловредные глыбы снега, выглянули пропавшие объемные буквы, и многозначащие слова снова обрели свой глубокий политический смысл.
Хуже было с дурацкой снежной шапкой на голове Великого Вождя. Находясь на значительной или, как должно сказать в этом случае, недосягаемой высоте, она прочно улеглась на вершине деревянного каркаса, нахлобучившись до самых бровей Кормчего.
С недосягаемой высотой, подавив в себе возвышенные чувства, быстро справились люди Шендерова. Они выломали в зрительном зале какой-то карниз и, прикрепив к нему попавшуюся под руки швабру, передали это орудие наверх Черткам и, оставшись внизу и в стороне от сомнительных действий, наблюдали за оцепленными милицией улицами и ходом событий.
Чертки по очереди пытались зацепить шваброй край нахлобученной глыбы. Наконец им это удалось. Но глыба, съехав одной стороной набок и опустив вниз свой неотвалившийся край, напоминала расхлестанную, с одним опущенным ухом, шапку-ушанку бобруйских дровосеков.
И это, конечно, увидели все возбужденные и раздосадованные ответственные люди, которых по особым документам пропустила милиция для участия в ликвидации случившегося безобразия. Они топтались в снежных сугробах, стараясь не смотреть друг другу в глаза.
Главный Начальник уже свирепел. Его возмущало дурацкое и безвольное ковыряние краем швабры по нависшему снегу. И когда в очередной раз привязанная к карнизу швабра, скользнув по снегу, не зацепила его, Главный Начальник прорычал:
— Эй, лабухи! Трахните по нему как следует, и он сам свалится!
…Вам не приходилось видеть, как бледнеют Начальники? Я тоже не видел, но известно, что Главный Начальник побледнел.
Уверяю вас, он ничего такого не думал, он думал об этом неожиданно свалившемся, как снег на голову, снеге, который из-за этой случайной оттепели чуть подледенел и крепко пристал к фуражке Вождя, и таким нежным царапаньем швабры его оттуда не отдерешь, а нужно как следует по нему, уверяю вас, по снегу, как следует трахнуть. Шваброй или чем-то другим. И тогда снег свалится.
Он только так думал. Но слово — не воробей, и Шендеров закусил губу, но пока ничего не сказал, потому что Главный Начальник пока оставался Главным Начальником.
Губу закусил только один Шендеров. Его люди сделали вид, что они ничего не слышали, а милиция в оцеплении и ответственные люди с пропусками решили, что эти чудовищные слова есть плод их возбужденного нездорового состояния, или, как говорили титовские старухи, их путает бес.
Одни лишь трубочисты Чертки правильно поняли Главного Начальника. Они вытоптали дорожку в заваленной снегом крыше, отошли чуть назад от объемных букв и достаточно объемного бревенчатого каркаса, к которому был прикреплен необъемный, но из лучшей фанеры ОН, и весело решили выполнить приказ Главного Начальника своими круглыми гирями на веревках. Вряд ли бы они на это решились, будь перед ними лицевая часть монумента, где были руки на штурвале и сам Великий Вождь. Но они видели перед собой только бревенчатый каркас, к которому была прибита фанера, и снег на стропилах, который, как указал Главный Начальник, можно сбросить, только хорошенько трахнув по нему, очевидно, чем-то тяжелым.
И они весело принялись за дело. Первым запустил в сооружение привязанной к веревке круглой гирей Борух, потом Яша… Или сначала Яша, а потом Борух?.. Собственно, это неважно, от чьей гири вдруг треснула непробиваемая даже пулями фанера. Наверно, на эту фанеру тоже подействовали погодные перепады, и она не выдержала удара круглой гирей, которой вместе с метелкой трубочисты прочищают дымоходы.
Но, скорей всего, здесь сыграл свою роль черный глаз Бори Вихмана, щупавшего и хвалившего эту фанеру еще при самом зачатии монумента. Здесь, конечно, была какая-то причина, но уже все произошло, и не в причине было дело.
Снег, дрогнувший от удара гири, чуть сдвинулся с места, но еще не свалился. На той стороне фанеры, обращенной ко всему собравшемуся внизу начальству, на той ее стороне, где было лицо Великого Вождя, вдруг вылезли рваные клыки. Они вылезли как раз в том месте, где под усами обычно бывает рот.
Эта фанерная щепа, чудовищно исказившая образ Кормчего, решила судьбу трубочистов Чертков.
Их забрали в сумерках, когда еще не закрывали ставни и теплый домашний свет уютно лежал на сугробах.
Ах, Чертки, Чертки… Две веселые черные птицы на белом снегу…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
На углу, недалеко от школы, в синеве зимнего вечера стоят пареньки. Это мои школьные товарищи. Вон тот, в казакине, — это я. У нас в руках портфели. В чем я носил учебники? Может, это был ранец? Или какая-нибудь сумка? А может, все же портфель?
Но это неважно.
На мне надет казакин — такой в талию сшитый удлиненный черный тулупчик, отороченный белой овчиной.
Это тоже неважно.
Важно то, что они, мои школьные товарищи, до сих пор стоят на том углу, недалеко от школы, и сгущающиеся сумерки так и не могут нас разлучить…
Я прощаюсь с ними потому что какая-то сила, какое-то предчувствие чего-то необычного, щемяще тревожного тянет меня домой, туда, где уже, наверно, мама пришла с работы и бабушка Нехама, стараясь скрасить холодную пустоту, поселившуюся в наших комнатах, кормит Соню и маму обедом.
Я шел домой, и странное предчувствие, тревожное, непонятное, заставляющее учащенно, как при беге, дышать и прикладывать руку к колотящемуся сердцу, подгоняло меня. Но я не бежал, а старался идти медленнее, потому что в этом предчувствии был страх какой-то перемены и она могла оказаться и доброй, и злой.
Уже совсем стемнело, желто тлели огни у кино «Пролетарий», скрипел под ногами снег, и я еще не знал, что жизнь моя, разделенная арестом Исаака на отдельные миры, скоро сольется в одну тревожную короткую, сроком в одну неделю, жизнь, когда мы снова будем с ним вместе.
…В общем с соседями коридоре топилась печь. Это была наша печь, она только затапливалась из коридора, а сама она, высокая, кафельная, украшенная позолоченным лепным карнизом, находилась в комнате Исаака, где стояла моя кровать, где были книжный шкаф и письменный стол, на котором, сложив на груди руки, о чем-то думал металлический Наполеон.
В коридоре весело потрескивала наша печь, которую мы, сохраняя дрова, давно не топили. Мы топили только вторую печь, в нашей столовой, и она как-то согревала нас. Печь в коридоре мы не топили, и поэтому я остановился и, глядя на эту кем-то по какому-то случаю затопленную печь, почувствовал, как все сильнее, с толчками и перебоями колотится мое сердце.
Дверь в наши комнаты была обычной и прочной, она еще не стала шаткой, как теперь в моих повторяющихся снах. Но я открыл ее медленно и, как мне показалось, бесшумно. Как бывает только во сне…
Расположенные одна за другой наши небольшие три комнаты сразу просматривались. Свет горел только в средней комнате — нашей столовой, и я увидал там радостное лицо мамы. Потом, наверное, показались лица Нехамы и Сони и голова того, кто сидел ко мне спиной.
Я уже все понял, а мама, стараясь быть веселой, как-то особенно, непередаваемо раздельно сказала:
— Вот идет твой сын.
Он поднялся и пошел ко мне, а я все еще стоял в его комнате, где не горел свет, но уже чувствовалось тепло затопленной печки. Он подошел ко мне, и мы обнялись, и я сквозь охватившую меня дрожь почувствовал слабость его искалеченного тела.
Они только думали, что я ничего не понимаю, но я видел, как мама, нагрев таз воды, мыла его. Нехама куда-то увела Соню. Но так случилось, что я оказался при этом и видел черные следы сапог на его спине.
Он не имел права рассказывать о том, что там с ним делали, и тем более о том, что у него спрашивали. Он должен был молчать и объяснять, что выпущен до суда. Следы от сапог можно было скрывать под одеждой, а шрам на голове он должен был объяснять тем, что неудачно упал, слезая с нар.
Хитроумные, искушенные следователи, плетя паутину, что-то задумали свое, еще для кого-то гиблое и зловещее, и выпустили Исаака вроде бы на волю, вроде бы всерьез. Но он уже хорошо знал их повадки…
Эта искушенная команда Зубрицкого, просмотрев оборы на лаптях «трохциста», исправила свой недочет и не дала Исааку умереть в тюрьме. Выпустив его вроде бы на свободу они просмотрели еще одну мелочь. Они просмотрели пустячный носовой платок в кармане его брюк.
Приближаясь к тому зимнему вечеру, когда он сдержал свое слово, а я, обезумев, бежал по темным и злым улицам, я отсчитываю короткие, оставшиеся в нашей общей с ним жизни дни и все четче, все осязаемее и яснее вижу окружающие нас вещи и стены наших комнат и, может быть, ничего не значащие, казалось бы, давно забытые, присущие только им приметы.
И они, эти стены и вещи, сохраняя свои, только тогда известные глазу особенности и изъяны, начинают выплывать из сумрака моей памяти и, став на свои места, оберегают правду от вымысла.
И появляется наша вторая печка… Да, это было на следующий день, когда мы остались вдвоем и он согревал свою искалеченную поясницу прижавшись к натопленной печке. Эта наша вторая печь растапливалась в столовой, а вся ее уютная, несущая тепло стена была в спальне. Печка была оклеена обоями, а в том месте, где к ней обычно прислонялись, отставшие и вытертые, словно подгоревшие по краям, рваные слои предыдущих оклеек обнажали ее кирпичную основу.
Он прижимался к этим проступающим кирпичам, ища большего тепла и какой-то необходимой ему прочности и опоры. Там, у этой печки с ободранными слоями старых обоев, я узнал от него правду. Он случайно вынул из кармана что-то скомканное и тут же, стараясь скрыть от меня этот странный комок, затолкал его обратно.
— Папа, что это? — спросил я.
И он спокойно, но как-то устало ответил:
— Это носовой платок.
…Если бы не оплошность кого-то из команды Зубрицкого, я никогда не узнал бы о том, как следователь разбил ему го\ову тяжелой чернильницей.
Может быть, я бы ничего не узнал.
Но потом, когда я развернул этот ссохшийся матерчатый комок, залитый чернилами и кровью, когда я развернул его на стуле и не заплакал, он долго смотрел мне в глаза, а потом сказал, что там, откуда он временно пришел, собрались и орудуют враги, но живым они его больше не возьмут.
Он был очень слаб, но глаза его смотрели внимательно и долго. Пришла мама и старалась его развеселить и заставить не думать о том, что уже прошло и никогда не вернется. Он покачал головой и сказал уже ей и мне, потому что она вдруг стала серьезной, а я в те минуты, наверно, выглядел совсем взрослым:
— Меня не будет, но вы узнаете, что это орудуют враги. Они берут и уничтожают лучших людей.
Мама обняла его и сказала, что ему нужно отдохнуть.
— Идемте обедать, — сказала мама.
Сохраняя свои приметы — источенные жучком нижние дверцы и дребезжащие стекла, — из сумрака моей памяти выплывает книжный шкаф. Он когда-то принадлежал Шмулу и был очень стар. Он стоит в комнате Исаака, там, в углу, сразу налево от двери, недалеко от написанных на продолговатой фанере зимних берез, над хрупкой китайской полочкой.
В шкафу живут Джек Лондон и журналы «Мир приключений» и «Всемирный следопыт» — каждый номер переплетен в отдельную тонкую книжку с красивой обложкой.
…Вынырнув из розовой воды, человек что-то кричит и в поднятой руке держит белую, покрытую солью мертвую голову. Рассказ назывался «Голова Сулеймана»…
На красивых обложках шли по раскаленной пустыне, вглядываясь в таинственные следы, смелые люди в широкополых шляпах, пигмеи-пришельцы с неведомых планет, скорчившись на черном фоне обложки, обдумывали что-то свое, загадочное и опасное… А на обложках еще не переплетенных Исааком, но уже давно прочитанных и любимых книг остроносый Гоголь во фраке отодвигал занавес, за которым были Остап, и Солоха, и Черт, и Городничий…
Я хорошо знал этот дребезжащий стеклами книжный шкаф. Там не могла прижиться эта на вид небольшая книжка в сером картонном переплете. Может быть, я ее не замечал среди того, что привлекало, было любимо и не раз с непропадающим интересом перечитано.
Когда она появилась в нашем книжном шкафу? Сколько лежала нераскрытой, дожидаясь своей встречи с Исааком? Я ее, наверно, не замечал или, не глядя, отбрасывал. Наверно, отталкивала казенная безжизненность обложки. Или я что-то чувствовал…
Но теперь ее читал Исаак. Он стоял, прижимаясь спиной к вытопленной печке, приложив одну руку к пояснице и едва заметно раскачиваясь. В свободной руке он держал эту серую небольшую книжку Он читал ее, не отрываясь, только изредка какое-то странное бормотание, похожее на зажатый в стиснутых зубах долгий стон, прерывало чтение, и он опускал руку с книгой и тогда, задумавшись, не поднимал ее, а только смотрел в сторону окна, где над голыми, протянутыми в сторону нашего дома ветвями столетнего тополя кружил редкий снег.
Я старался не мешать ему и молчал вместе с ним. Только тяжело было слышать это изредка прорывающееся короткое бормотание, похожее на зажатый в стиснутых зубах долгий стон. Он перестал читать, но не оторвался от прочитанного и вдруг сказал:
— Меня тоже били ножкой от табурета. Это ведь одно и то же, и бьют, и издеваются они одинаково с теми.
Ночью, когда все уснули, я рассмотрел эту книжку. Я не стал ее читать, что-то остановило меня. Я только внимательно рассмотрел ее обложку и слова на ней. Ее написал Вилли Бредель, и называлась она «Испытание».
Прошло очень много лет, почти целая жизнь. Так случилось, что однажды я еще раз встретился с этой книгой и прочитал ее. Она была в другом, красивом переплете и выглядела иначе, но на обложке были те же слова: «Вилли Бредель. Испытание».
Я прочитал эту книгу, и притихшая, тупая, но никогда не покидавшая меня боль снова стала острой и нестерпимой.
Вы читаете: Предисловие. Пролог ❑ Главы 1-5 ❑ Главы 6-10 ❑ Главы 11-15 ❑ Главы 16-19 ❑ Главы 20-23 ❑ Главы 24-26
На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) Абрам Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Это не просто книга. Это живая история, иллюстрации к которой – картины Абрама Рабкина