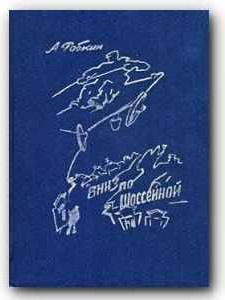
Предисловие
Пролог
Главы 1-5
Главы 6-10
Главы 11-15
Главы 16-19
Главы 20-23
Главы 24-26
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Вы знаете, что нужно иметь для того, чтобы замесить халу? Замесить, а не испечь?
Испечь эту субботнюю сдобную булку в хорошей печи опытной хозяйке совсем не трудно, но для того, чтобы замесить халу нужно, кроме муки, иметь еще кое-что.
Чтобы замесить халу нужны еще яйца, сахар, соль, мак и беймул. Ничего особенного и недоступного в слове «беймул» нет. Так в еврейских домах называют обыкновенное постное масло, которое так вкусно пахнет жареными семечками.
В доме была мука, нашелся сахар, в доме была соль, а накануне какая-то женщина из Думенщины принесла несколько десятков яиц. Она не взяла денег, она только перекрестилась и сказала:
— Это на поправку.
Когда она приходила, в доме с Исааком оставалась одна Нехама, но Исаак спал, и Нехама не стала его будить. Нехама была рада тому что Исаак стал спать. Он даже сказал, что завтра выйдет на улицу и вечером пойдет встречать маму с работы. И Нехама решила приготовить к этому вечеру хороший обед и испечь халу.
Беймул принесла Хае-Рива Годкина. Она еще о чем-то пошепталась с Нехамой, и в доме оказалась свежая щука.
Ну а мак? Вы не забыли, что для настоящей халы нужен мак? Маком посыпают халу сверху, а без мака это уже не хала.
Вы, наверно, догадались, что мак принесла Матля. Она пришла и, не раздеваясь, шумно приговаривая что-то хорошее, расцеловала Исаака и сказала, что завтра они придут с Мейшей как следует его проведать.
Снег, выпавший в конце прошлой недели, не поддался случайной короткой оттепели, обкатался полозьями и превратил Шоссейную в веселый, с бубенцами и криками возниц санный путь с сугробами по бокам и заманчивой, бегущей вдоль зимней улицы лыжней.
…И лыжи мои скользили легко и быстро, и ожившая в моей душе радость помогала стремительному бегу вниз по зимней, уже погрузившейся в сумерки Шоссейной, потом — раз, ловко перескочить направо, на другую лыжню уже вдоль Октябрьской, и мчать, отталкиваясь от веселого голубого снега, до поворота на бывшую Слуцкую, и там опять перебросить себя на здешний обкатанный снег, и опять мчать, лихо свернув на Пушкинскую, к кино «Пролетарий», а там снова по Шоссейной вниз и опять направо, и радостно дышать, и счастливо думать, что Исаак поправится, что мы будем вместе, что все у нас наладится, что будет весна, что будет лето, что будет наш любимый сентябрь, что прекрасна зима и какое счастье, что у меня есть Исаак!
…Вот они идут с мамой под руку и мама тоже счастлива.
— Идем с нами обедать, сынок, — кричит мне Исаак.
— Папа, дорогой, ешьте пока сами, я пронесусь еще круг, мне так хорошо, я потом приду!
Он что-то сказал маме, а потом крикнул:
— Несись, несись! Пусть тебе будет хорошо!
И я понесся по своему кругу, заканчивая совсем короткие счастливые минуты.
В те вечера часто отключали электричество. Слишком много гирлянд из горящих лампочек в прошедшие праздничные дни украшали город. Нужно было возместить расточительность. Вдруг погасли огни «Пролетария», погасли редкие фонари на столбах, и улицы, как-то уйдя в себя, помрачнели и затаились.
Что-то холодком кольнуло сердце…
Когда я, отряхнув и оставив в коридоре лыжи, открыл дверь в наши комнаты, там, в столовой, на покрытом белой скатертью и уставленном тарелками столе, в центре которого стояло блюдо с фаршированной рыбой и лежала нарезанная хала, уже мигала, чуть коптя, керосиновая лампа.
Ничего она особенно не меняла, только уютней и значительней, как на картинах Рембрандта, выделялось освещенное низким желтым светом лицо Нехамы. Она плакала, а мама, из тени от незнакомой большой вазы с искусственными цветами, безнадежным, захлебывающимся в слезах голосом упрекала ее:
— Зачем ты ему это сказала… Он ведь мог успеть покушать… Зачем ты это сделала…
Я, ничего не понимая, сбрасывал с себя свитер и еще какую-то утомившую меня одежду Они увидели меня и, пригвожденные к своим местам чем-то страшным, сквозь слезы велели мне найти Исаака:
— Иди и найди его, он где-то во дворе, спаси его…
Меня тоже охватило оцепенение. Оно длилось какие-то секунды, но я успел увидеть на столе, в том месте, где ел Исаак, тарелку с нетронутой рыбой, надкусанный ломоть халы и рядом с ним еще влажный, вынутый изо рта, не проглоченный Исааком кусок.
Только кинувшись через кухню во двор, я понял, что он ушел, чтобы сдержать слово и не даться в руки врагов живым.
Много позже я узнал от Нехамы, что в тот вечер они пришли за ним. Их было двое, и они удивились, что его нет дома, спросили, где он, и перепуганная Нехама все же сообразила ответить, что он ушел еще утром, но куда — она не знает. И она слышала, как, уходя, один из них сказал другому: «Зайдем ночью, никуда не денется».
…Он стоял в конце двора возле уборной и курил.
Я бросился к нему, но он остановил меня каким-то совершенно спокойным голосом. Словно ничего не произошло и он вышел просто покурить, а я нелепо, не уважая его, вторгаюсь в это раздумье, которое вот-вот кончится, и он, докурив папиросу, растопчет окурок и вернется за стол. Он обезоружил меня спокойствием, обыденностью и естественностью того, что я услышал:
— Иди домой, ты простудишься.
После мне чудилось, что он еще добавил: «Я скоро приду», — но это мне показалось, и я, поверив ему, ушел.
Он не произнес этих слов. В его словах не было лжи, потому что он уже знал, что не придет. Он только думал о том, что должен сдержать слово и не попасть в руки врагов живым.
А я, успокоенный его голосом и его спокойствием, вернулся в нашу столовую, где горела, мигая, керосиновая лампа и мама продолжала укорять плачущую Нехаму.
…Мне, наверно, нужно было обхватить его и не выпускать. И я опять кинулся в заваленный снегом двор, к тому месту, где он совсем недавно стоял. Но его там уже не было.
Я нащупывал в снегу его следы, они вели к пролому в заборе, но на соседнем дворе они потерялись среди других следов…
А на нашем дворе уже появились Мейша и Матля и еще какие-то люди, и кто-то кричал, что нужен фонарь. А потом они метались по двору с этой «летучей мышью» и разводили руками.
И вдруг я услышал крик Нехамы:
— Вот же он стоит!
…Он почти касался носками ботинок разрушенного сугроба у подножия лестницы, прислоненной к сеням нашего дома, и Нехаме могло показаться, что он стоит, опустив голову. Кто-то обрезал веревку, и он, поддержанный кем-то, опустился на снег.
Они не могли распустить петлю на его шее. Она была затянута тугим узлом. Они не могли распустить петлю, им мешал этот накрепко, наверняка затянутый на его шее тугой узел. Они не могли его спасти, и я оттолкнул их всех, упал на снег и вцепился зубами в эту сплетенную вязкую пеньку, которая убивала моего Исаака. Может быть, я ее разгрыз, или они, оттащив меня, сами распутали петлю.
…Я еще надеялся и, как мог, помогал Мейше и каким-то мужчинам внести его в дом. Я надеялся и потому не то кричал, не то бормотал: «Быстрее… Быстрее…»
Но быстрее нельзя было. Эти сени, и эта тяжелая, мореного дерева, набранная ромбом дверь в общую кухню, и там какие-то люди, какие-то лица, и лицо маленькой Сони, и узкий коридор в нашу столовую, и только потом спальня.
…Он лежал, может быть, еще живой, и вырванное из того, что происходило вокруг, отключенное от криков и плача, от все больше заполнявшей наши комнаты толпы и от холода, проникшего в распахнутые двери, мое отключенное сознание видело только его. И выплыла из тьмы кровать, освещенная тошнотворным, слабым, откуда-то исходящим светом, и на ней он, какой-то беззащитный, но спокойный, может быть, еще живой. Сквозь рыжеватые, почти опустившиеся ресницы на меня внимательно смотрели его глаза. Потом он как-то странно всхлипнул, и ресницы опустились. Его левая, попадавшая в этот тошнотворный свет разжатая ладонь шевельнулась, и большой палец стал медленно сгибаться, наклоняясь к ее середине, и там, согнувшись, застыл.
И я понял, что он мертв.
Кажется, я слышал стон мамы, но я рванулся куда-то сквозь эту заполнявшую наши комнаты толпу соседей и случайных прохожих, среди которых, наверно, были и те, кто приходил за ним и кому он живым так и не дался.
Я рванул сквозь эту толпу в холод злых и темных улиц, чтобы добежать к Винокуру и выкрикнуть свою страшную, заполнившую меня безумием и ужасом, не объяснимую словами боль.
…Они шли подвыпившей стайкой, хохоча над чем-то своим, а я, не замечая дороги, врезался в их гущу, и они, походя, продолжая смеяться, несколько раз ударили меня головой о забор.
Я не упал, только как-то вбок качнулись дома и поплыли в сторону сугробы, а мои ноги, заплетаясь, искали опору в ускользающем снежном насте. Но я вбежал в дом Винокура и выкрикнул:
— Папа повесился…
Потом тьма, провал в памяти… Тепло чьих-то рук. Они гладят мою голову и укрывают спину Я слышу голос Севиной мамы:
— Саша, выключи радио.
А радио… Там говорят что-то бодрое… И музыка.
— Саша, выключи радио, — повторяет Севина мама.
Музыки нет.
— Усни, мальчик, усни.
Она гладит мою голову. У нее добрые руки.
…Трюмо — это такое большое зеркало на ножках. Оно стоит в комнате у портнихи Краверской, и много женщин, молодых и старых, отразились в нем… Девочкам тоже шили у Краверской… Вот Дина смотрит на меня из трюмо, а за ней Леля. Леля удивительно красивая, сказал папа. Они красивые, но почему их лица начинают бледнеть?.. На них набегают морщины, и отвисают их подбородки, тускнеют глаза. Они становятся похожими на прабабушку Эльку… Севка, мой друг, опирается на костыль и говорит, что он убит.
Я кричу им:
— Дина, Леля, не старейте! Оставайтесь молодыми!
Но какие-то старухи выглядывают из-за них, сливаясь с ними. Они там, в глубине трюмо у портнихи Краверской. По Севкиной голове течет кровь, и я кричу: «Сева, не умирай! Девочки, не старейте!»
Но я уже не узнаю старух, а Сева отворачивается от меня и уходит мимо сундука с письмами из разных стран куда-то в глубь коридора старого дома, где темно и неясно, как в глубинах трюмо, куда уходят и уходят люди, и среди них я вижу папу с туго затянутой на горле веревкой… Папа повесился — обжигает дикая мысль. Он повесился… «Ааааа!» — кричу я, и мой крик похож на мычание, потому что я вцепился зубами в подушку.
— Спи, мальчик, спи…
Добрые руки Севиной мамы гладят мою голову.
— Усни, мальчик, усни…
И я опять куда-то проваливаюсь.
Спи, парнишка, спи. Провались в глубокий сон, словно временную смерть. Это свойство будет спасать тебя от безумия в долгой жизни, которая тебе предстоит.
Ты доживешь до седин.
Севкиного отца расстреляет НКВД, а Александру Георгиевну Севкину маму, чьи руки гладят твою голову, расстреляют немцы в Бресте. Севка погибнет на фронте.
Тебе предстоит долгая нелегкая жизнь, но, дожив до старости, ты все равно будешь бродить у закрытых ставней твоего детства и испытывать муку разлада.
Но будет и свет, и ты увидишь, как по спускающемуся к реке саду, приминая густой клевер, пройдет женщина. Ее глаза будут лучиться солнцем и вдохновением окунувшегося в сказку ребенка.
Над стогом и сараем будет кружить аист. Низко, почти касаясь сада, вытянувшись в стройном бесшумном полете, он проплывет над женщиной, и она, подняв к нему счастливое лицо, тихо голосом и пронзительно душой скажет:
— Здравствуйте!
Аист проплывет над рекой и опустится на лугу.
В лугах за рекой будут пастись кони и неподвижно белеть тонкие росчерки — застывшие в раздумье аисты.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
А что Рондлин? Ничего, он втянулся в быт этого странного цеха, где выпивали и закусывали на крышке гроба, а разомлев, отпускали опасные шутки по поводу выстроившихся вдоль стен черно-красных Марксов.
Однажды Гена по кличке Бурыла, основательно захмелев, зацепил ногой прислоненный к верстаку довольно значительный штабель Марксов, в досаде чертыхнулся и изрек:
— Наставили тут своих котов, человеку пройти негде!
Вдоволь насмеявшись над этим высказыванием, собутыльники, выпив еще немного, решили все же смягчить слово «кот» и стали величать произведения Рондлина «кисами». Ничего в этом страшного не было, все были свои, чужих в компанию не принимали, и, как говорится, Бог миловал.
Иногда для смены занятий, оторвавшись от своих «кис», Рондлин обмакивал широкий флейс в ведерко с надавленными и разведенными олифой красными тюбиками, которых, как ни мажь, оставалась еще прорва, и принимался красить очередной гроб.
Так случилось, что в этот вечер вся компания, искушенная предложением Жоры отведать свежины у него на дому, раньше времени покинула «Бытуслуги». Рондлин, наоборот, поборов соблазн, остался один. Он обещал Мейше, что, опираясь на свой авторитет, приложит все усилия, чтобы к завтрашнему утру Мейшин заказ был готов в достойном виде.
Он был готов, этот заказ. Оставалась покраска. Но в связи с затянувшимся похмельем о ней забыли. А Рондлин обещал, что все будет в достойном виде, и поэтому, поборов соблазн, остался один и, подлив в ведерко с разведенными красными тюбиками сиккатива, что могло обеспечить быстрое высыхание краски, принялся за дело. Возможно, он быстро справился бы с работой и, вымыв руки, скинув фартук и закрыв «Бытуслуги» на ключ, успел бы присоединиться к компании на дому у Жоры. Но стоило ему вчерне пройтись флейсом по гробу и, глянув на часы, подумать, что он вполне успеет на свежину как в дверях появился Рудзевицкий…
Может быть, Рудзевицкого действительно интересовала готовность очередной партии Марксов, заказанных для сельских клубов и изб-читален, а может быть, он даже имел особые полномочия от улыбчивого Саши, а если чуть пофантазировать, вдруг и от самого Главного Начальника.
Все это могло быть, и Рудзевицкий своим видом выражал особую серьезность и сухость. Он кивнул Рондлину и, будто не замечая его занятия, предложил расставить готовые портреты вдоль стен. Потом он долго ходил по требующему ремонта полу «Бытуслуг», вглядываясь в выстроившихся вдоль стен Марксов и убеждаясь, что они удивительно одинаковые и, значит, похожи и, значит, соответствуют своему назначению. Правда, иногда, когда Рудзевицкий наступал на какую-то либо расшатанную, либо неприбитую половицу, кто-нибудь из Марксов вздрагивал и даже подпрыгивал. Но это не мешало серьезности обстановки, когда на Рудзевицкого и Рондлина смотрели со всех сторон расставленные на полу Марксы.
Ну а если мысленно выбросить, не замечать всякий жестяной хлам и разные там доски, ведра, верстаки, а видеть только этих написанных на красном фоне Марксов, да еще этот недокрашенный, но уже наполовину красный гроб, то душа могла наполниться каким-то особым подъемом и торжественностью.
Так могло случиться с душой Рудзевицкого, если бы он зашел в «Бытуслуги» только с целью проверки готовности Марксов. Но по тому, что произошло дальше, можно предположить, что не эта высокая цель привела его к Рондлину Обойдя медленным шагом расставленные на полу портреты, вглядываясь в их облики, словно генерал, обходящий строй вытянувшихся и замерших солдат, Рудзевицкий вдруг ткнул пальцем в сторону недокрашенного гроба и с каким-то шипением спросил:
— А это что?
Рондлин ответил.
— Для кого заказан?
Рондлин ответил.
— Вы соображаете, что вы собираетесь сделать! — повышая голос и стараясь наполнить его металлом, взвыл Рудзевицкий.
Рондлин молчал и только машинально, бесконечно долго вытирал руки подвернувшейся тряпкой.
— Вы понимаете, что вы собираетесь сделать? — настроив голос на нужный металл, продолжал Рудзевицкий. — Вам доверено серьезное государственное дело, и вы обязаны быть политически грамотным человеком: с каких это пор врагов народа, попытавшихся уйти от правосудия путем самоубийства, мы будем хоронить в красных революционных гробах?! Оставьте этот гроб для действительно достойного человека, а заказчику выдайте некрашеный гроб!
Рондлин, продолжая вытирать руки, уже как-то пришел в себя и вставил свое слово, в котором объяснил Рудзевицкому что за гробом придут утром, а другого нет и ночью соорудить новый некому так как все работники разошлись по домам.
— Тогда снимите эту красную краску любым путем! Я завтра проверю, — металлически произнес Рудзевицкий и, хлопнув дверью, ушел.
Рондлину хотелось есть и привычно хотелось выпить. Наверно, там, у Жоры, топилась плита, весело скворчали ломти свежины и булькала, разливаясь по стаканам, водка… Он проглотил слюну и принялся смывать красную краску. Но керосин уже не везде брал приставшие к доскам и уже кое-где подсохшие, проведенные флейсом полосы. Он тер их наждаком, скреб ножом и даже пытался содрать рубанком…
Я не хоронил Исаака. Я старался помнить его живым. И они оставили меня дома. Только много позже, когда мы уже без слез могли говорить об этом, мне рассказали, что его хоронили в каком-то рябом гробу, словно кто-то царапал и скоблил его бурую поверхность.
Рудзевицкий не оставил нас в покое.
Сейчас трудно установить, имел ли он на это определенные указания, или это был случай, когда мелкий хищник старается урвать свой кусок от уже не нужной крупному зверю загубленной жизни.
Он и начал, как мелкий хищник, осторожно, как-то сбоку, делая вид, что хочет смягчить предстоящее нам выселение из квартиры. Он встретил Мейшу и заботливо поинтересовался, как уладилась его неприятность с липой и ее листьями, и предложил ему снова, если, конечно, Мейша в этом продолжает нуждаться, и свою помощь в ликвидации этого дерева.
Потом как-то невзначай, вроде по секрету, вроде открыто, как само собой разумеющееся, с оттенком сожаления поставил его в известность, что скоро семью его родственника, ускользнувшего от правосудия, выселят из квартиры. Простодушный Мейша спросил куда. Рудзевицкий ответил, что это его не касается, но он точно знает, что квартиру у них отнимут.
Мейша рассказал об этом Матле, но ей что-то показалось непонятным, и она сама, приведя себя в надлежащий вид, пошла к Рудзевицкому. Ее посещение кончилось тем, что Рудзевицкий обещал не оставить сирот на улице и что-нибудь для них придумать.
Так, петляя, постепенно он подошел к тому что уже сам появился в наших комнатах для разговора с мамой. Мама обреченно уже была готова ко всему, но, увидев Рудзевицкого, вздрогнула и заплакала.
Рудзевицкий предложил ей сесть и не расстраиваться, так как он нашел выход из создавшегося положения, и этот выход вполне должен ее устроить.
— Вам нужно срочно поменять вашу квартиру на меньшую и менее качественную, и оттуда вас уже не станут выселять, — доброжелательно сказал Рудзевицкий.
И заплаканная растерянная мама сказала:
— Хорошо.
Через несколько дней она взяла меня с собой смотреть эту безопасную для нас квартиру.
…Мы тогда не задумывались над действиями Рудзевицкого, только его постепенно нарастающая наглость говорила о его каком-то особом интересе. Мы должны были только совершить срочный обмен с хозяевами этой безопасной квартиры и тогда уже могли продолжать нашу жизнь спокойно.
Хозяев квартиры в первое наше посещение не было дома, но у Рудзевицкого был ключ, и мы вошли. Пискнув, шарахнулась в темный угол крыса, Рудзевицкий открыл ставни — они были внутри комнаты, и нам представилось наше будущее жилье.
Мама стояла, прислонившись к чужому буфету, и лицо ее было бледным и окаменевшим. Наверно, ее испугала крыса, она всегда боялась мышей. Она смотрела на пол, застланный дорожками и кусками картона. Она что-то увидела на полу что-то беспокоило ее, и она с трудом, словно откуда-то издали, спросила:
— А что здесь с полом?
— Пол, конечно, земляной, но вы можете настелить здесь фанеру, а сверху положить ковры, и будет очень уютно, — сказал Рудзевицкий.
— У нас нет ковров, — ответила мама, — мы подумаем.
Она взяла меня за руку, и мы вышли.
— Торопитесь, думайте! — вдогонку нам крикнул Рудзевицкий.
…Потом он заставил нас познакомиться с хозяевами этой продолговатой комнаты с земляным полом. Он торопил нас и назначал даты переезда.
— Переедете, и я сам быстро оформлю всю документацию, и вы наконец заживете спокойно, — приговаривал Рудзевицкий.
Он наглел с каждым днем. И не было дня, чтобы он не являлся к нам. Потом он вдруг перестал посещать нас, и мы, лишенные его странной опеки, вроде бы получили передышку.
…Это Севкин отец, адвокат Александр Кузьмич Петкевич, заступился за нас.
Это он, Севкин отец, пошел к этому Рудзевицкому и, сдерживая свой гнев, заявил, что нет такого закона, по которому нас должны выселить из квартиры, и что Рудзевицкий — шантажист.
И Рудзевицкий долго не появлялся. Потом все началось сначала. Тогда Матля пошла к матери Зины Гах — Хаше-Миндл Манчик. Это был правильный шаг, и то, что задумала Матля, могло подействовать на человека, у которого где-то остался хоть кусочек совести и какой-то, пусть совсем ничтожный, страх перед проклятиями.
Матля пошла к Хаше-Миндл Манчик, потому что Хаше-Миндл считалась специалистом по проклятиям, и тот, кто попадал под силу ее языка, становился кротким, послушным и даже человечным. Даже муж Хаше-Миндл извозчик-силач Зелик Манчик, усмиренный за долгие годы супружества ее языком, был очень человечен и не избивал своих обидчиков, а ударял их только один раз. Правда, они долго не приходили в себя.
Хаше-Миндл умирала. У ее постели был доктор Беленький. И он, как обычно, шутил и обещал еще станцевать с Хаше-Миндл.
— Гриша, я когда-нибудь с тобой ругалась? — спрашивала Хаше- Миндл. — А теперь буду — продолжала она. — Не надо лгать. И не смотри на меня. С меня хватит того, что прожила. Иди к тем, кому ты нужен.
Матля подошла к Хаше-Миндл и, не обращая внимания на Беленького и не придавая значения происходящему, рассказала о том, как Рудзевицкий мучает осиротевшую семью.
И тогда… Хотите верьте, хотите нет, умирающая Хаше-Миндл поднялась с постели, кивнула улыбнувшемуся доктору Беленькому и вскоре вошла в квартиру Рудзевицкого.
…Она наградила его такими проклятиями, таким набором сжигающих, испепеляющих слов, каких, поверьте, ни одному преступнику не приходилось слышать. Это была вершина ее мастерства и высота ее возмущенной благородной души.
Она и сейчас витает над Бобруйском, возмущенная и благородная душа Хаше-Миндл Манчик, и берегитесь ее, мерзавцы и негодяи.
Но Рудзевицкий не сдался. Он только взвизгнул, как получивший пинок непородистый пес, отскочил в сторону и снова стал настаивать на обмене.
И тогда Хае-Рива Годкина пошла за Авром ом Немцем.
Это было вечером, и Авром Немец отдыхал. Но он поднялся, надел чистую белую рубаху повязал галстук и пошел к Рудзевицкому Он недолго был у него, и неизвестно, о чем и как он говорил. Известно только, что Рудзевицкий широким жестом указал на свою этажерку, набитую политической литературой, и сказал:
— Я все это прочитал и знаю, как бороться с врагами народа и их пособниками!
Наверное, это был единственный случай, когда слова Аврома Немца не затронули сердца человека.
По-видимому, они миновали Рудзевицкого.
Они миновали Рудзевицкого, ударились о его этажерку и пропали.
Известно только, что Авром Немец с высоты своего роста и мудрости тихо сказал:
— Уменц.
Что означало — выродок, ничтожество, не человек.
Рудзевицкий назначил назавтра наш обмен и переезд в спасительную квартиру К часу дня должна была подъехать полуторка за нашими вещами. К этому времени все наши вещи должны были быть связаны в узлы…
Ночью маме приснился сон. Она видела Шмула. И Шмул грозил ей пальцем и говорил: «Не смей, не уходи из своего дома».
Потом появился Исаак. Он был в форме пожарника и стоял возле Шмула и тоже говорил: «Не уходи из дома, не отдавай им наши комнаты».
Они стояли рядом, Шмул и Исаак, и маме показалось, что они даже взялись за руки, чтобы заслонить собой ее и нас и не дать Рудзевицкому и его приятелям войти к нам и начать выбрасывать на улицу наши вещи, книги и кровати, чтобы перевезти их, как выразился Рудзевицкий, гуманно в другую квартиру, где был земляной пол и бегали крысы.
Шмул и Исаак стояли рядом, взявшись за руки, и уже почти в один голос говорили: «Не уходи, не соглашайся!»
И мама проснулась сильной.
И когда пришел Рудзевицкий и сказал, что через несколько минут прибудет транспорт, чтобы нас перевезти, и удивился, что до сих пор не собраны и не связаны в узлы наши вещи, мама, гордая и красивая, подошла к нему и тихо, с нарастающим гневом сказала:
— Убирайтесь отсюда, мерзавец! Мне и моим детям нечего терять. Мы никуда не пойдем, а вы будьте прокляты!
Что-то случилось с Рудзевицким. Он попятился и, повторяя: «Тише, тише, не надо так волноваться, ведь ваш обмен мог быть добровольным, я ведь не настаиваю», куда-то скатился и пропал.
Что-то случилось с Рудзевицким.
Что-то случилось с этой жестокой машиной, которой нас все долгие месяцы пугал Рудзевицкий. Какие-то песчинки попали в ее внутренности, и она, заскрежетав, не сработала привычно.
Что-то случилось.
Может быть, о нас забыли, может, решили, что и так с нас хватит? Но это вряд ли…
Или, может быть, действительно, седой Шмул и Исаак в пожарной форме, с кровавым шрамом на шее, защитили нас? Мы не ушли. Мы остались в наших комнатах. И больше к нам, чтобы выгнать из них, никто не приходил.
Мама шла с ночного дежурства и время от времени погружала лицо в еще влажный букет, только что срезанный для нее садовником. Наверное, она нравилась садовнику водолечебницы, и он каждый раз дарил ей цветы.
Мама шла по еще пустынной, освещенной встающим солнцем Пушкинской улице, и четкий стук ее каблучков был слышен издали и будил во мне радость.
Я и теперь, через много лет, стараюсь идти этой улицей и даже в дождь, прислушиваясь к себе, слышу звук ее шагов. Она шла и вдыхала запах цветов, моя красивая и молодая мама…
Вы не забыли портняжку Рабкина со свертком перешитой одежды? Он нес этот сверток нам. Одежда перешита для меня, как просил в своей записке Исаак.
И они — портняжка Рабкин и мама с букетом цветов — встретились у входа в наши комнаты. Она еще не успела открыть дверь и увидела его. Цветы упали на пол, и, опираясь на косяк двери, мама зарыдала. А портняжка утешал ее, и по его изъеденным оспой щекам и носу из маленьких добрых глаз тоже текли слезы, заполняя рытвины на его лице и делая его гладким, каким-то неземным.
Он не взял денег за работу, как она его ни уговаривала, и ушел, сморкаясь в грязный платок и шаркая большими, с чужих ног, ботинками.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
…Пятисоткилограммовая бомба почему-то не взорвалась и, зарывшись наполовину в землю, чужеродно и непонятно торчала из развороченных булыжников. Она упала вместе с несколькими другими бомбами, грохнувшими где-то на окраине города.
Бомбы сбросили ночью, может быть, случайно или для острастки, пролетая над городом куда-то к другой, более важной цели. Днем саперы взрывали уткнувшуюся в землю бомбу. Взрыв качнул дома, осколки взметнулись к небу и, падая, прошуршали в деревьях. По улице, подпрыгивая, бежал пацан и, торжествуя, кричал:
— Меня ранило! Меня ранило!
Одной рукой он зажимал плечо. Из-под его ладони, заливая футболку текла кровь.
По Шоссейной уже несколько дней, с той стороны, где садилось солнце, шли беженцы. Их называли «западниками». Их жалели, кормили и оставляли ночевать.
Потом проехали и прошли покрытые пылью военные. Они бестолково отвечали на вопросы, просили пить и двигались дальше, за Березину.
Затаенно звякнув подвязанными колоколами, оставили депо и ушли за Березину пожарные машины.
К вечеру по опустевшей Шоссейной под конвоем куда-то увели заключенных.
Когда стемнело, Шоссейная была пустынна.
Нас обещали увезти, и мы закрыли на большой фигурный ключ наши комнаты и ночью, в доме Матлиных сестер, ждали машину Мужья Матлиных сестер обещали, что эта машина завезет нас, и их, и всех их соседей далеко за Березину туда, где война не сумеет нас догнать.
Машины не было, и Фанин муж, обстоятельный Гершн, повязал галстук, налил в бокал вина и сказал, что мы все остаемся. Он, наверное, понимал, что это значит, потому что голос его дрогнул, и он медленно, как на поминках, выпил свое вино.
Я вышел на улицу и видел, как в разных концах города занимались пожары. Их дальние отсветы гуляли по застывшим садам и заколоченным ставням. Было тихо, только безнадежно и устало блеяла чья-то коза, привязанная к телеграфному столбу.
…Ия вдруг почувствовал себя Исааком. Я вошел в дом и сказал маме и сестре:
— Собирайтесь, мы уходим.
И тетки моего отца, и их мужья стали ругать меня, как когда-то Исаака, и, как когда-то Исаака, обозвали меня безумцем. Но я сказал:
— Мы уходим!
И мы вышли на пустынную, освещенную дальними пожарами Шоссейную, когда уже где-то там, где она встречалась с Березиной, сжигали деревянный мост с башенками и перилами, и до нас доносился запах гари.
Оставался железобетонный мост, но вряд ли бы мы успели добраться до него. Нас могло спасти только чудо.
И оно случилось.
Одинокая полуторка с ранеными красноармейцами остановилась на Шоссейной, и водитель спросил дорогу к мосту. Он взял нас. Его фамилия была Суворов.
…В крепости горели казармы, и по задымленным, трудноузнаваемым улицам грузовичок с ранеными, подобравший нас, пробирался к реке и железобетонному мосту.
Там, у моста, грузовичок стал. Несколько вооруженных солдат остановили его и скорбную, непрерывно растущую и накапливающуюся в толпу вереницу людей. Белые связки домашнего скарба за спинами сгибали их и делали похожими на согнувшихся, бесшумных, непонятно куда стремящихся призраков.
Было удивительно тихо, так тихо, что можно было в этом остановившемся скопище людей и застрявших машин расслышать нудный, настойчивый, бесстрастный, подступающий к горлу, как рвота, и заполняющий небо и пространство гул летящих на большой высоте немецких самолетов.
Из темной пасти моста выехала легковая машина и на миг была остановлена патрулем. Приоткрылась дверца, и чей-то голос произнес: «Командующий фронтом».
Дверца захлопнулась, и машина сквозь расступающуюся толпу умчала в ту сторону, откуда бежали эти люди и где горел город.
Это был генерал Павлов.
Через очень короткое время его расстреляют.
…Чуть светало. Стонали раненые. Остро пахли травы и кусты олешника, смешиваясь с запахом бензина и йода.
Ревущая и стонущая бездна войны обрушилась на мир и утопила в трагедии народа трагедию моего детства.
Давайте улыбнемся, ведь это все позади, и жизнь продолжается, и в ней будет хорошее.
Что? Мало осталось времени?
Что значит мало или много? Хорошего всегда мало, но оно должно быть, и будет яблоневый край с рассветами в росе, с лиловым клевером и лугами, в которых будут бродить кони, а по спускающемуся к реке саду приминая густую траву, пройдет женщина.
Над ней медленно, почти касаясь деревьев, проплывет аист, и она, подняв к нему счастливое лицо, скажет:
— Здравствуйте!
Бобруйск — Санкт-Петербург 1993–1995
Вы читаете: Предисловие. Пролог ❑ Главы 1-5 ❑ Главы 6-10 ❑ Главы 11-15 ❑ Главы 16-19 ❑ Главы 20-23 ❑ Главы 24-26
На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) Абрам Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Это не просто книга. Это живая история, иллюстрации к которой – картины Абрама Рабкина