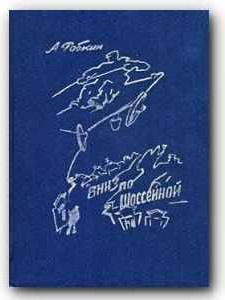
Предисловие
Пролог
Главы 1-5
Главы 6-10
Главы 11-15
Главы 16-19
Главы 20-23
Главы 24-26
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В приемной девушка-секретарь вытирала вафельным полотенцем яблоки и укладывала их горкой в коричневую вазу.
Раннее солнечное утро, уютная тишина приемной и сама девушка, похожая за этим занятием на аккуратную буфетчицу, успокоили Рондлина.
Протерев яблоки, девушка предложила Рондлину обождать, так как начальник занят, и, подхватив вазу с яблоками, скрылась за дверью кабинета.
«Совсем по-домашнему», — подумал Рондлин и стал снова обдумывать порядок предстоящей беседы. Решил начать с замечаний по улицам и закончить изложением своей идеи.
Девушка вернулась и сказала:
— Я о вас не докладывала. Там совещание с директорами. Как кончится — доложу. Он их сейчас яблоками угощает, а что потом будет, не знаю.
Рондлин вытянул ноги, уютно расположился в кресле, стал ждать.
Дверь распахнулась, и в ней как-то боком, словно выталкивая друг друга, показались двое с портфелями. Оба вытирали платками мокрые лысины и красные лица. Ничего не говоря, втянув головы в плечи, они покинули приемную.
Тревога краем задела Рондлина. А когда, на ходу застегивая раздутый портфель и странно вращая глазами, из кабинета вывалился и, не находя двери в коридор, вцепился в ручку платяного шкафа еще один директор, покой покинул Рондлина. Теперь он решил начать свою беседу с начальником не с замечаний по улицам, а сразу преподнести свою грандиозную идею, а после, по ходу дела, покритиковать недостатки.
Из кабинета гуськом вышли еще двое. Эти были бледны, и лица их были вытянуты.
— Там еще остался начальник пожарной охраны Винокур, — сказала девушка, — как только он уйдет, я доложу о вас.
Рондлин проглотил слюну и попытался принять прежнюю позу, но вернуть покой не удалось. Ожидание становилось тягостным. Он снова и снова лихорадочно обдумывал план беседы и в конце концов так запутался и ушел мыслями в ее дебри, что, когда из кабинета Волковича вышел начальник пожарной охраны города Винокур и поздоровался с ним, он что-то пробормотал и уставился на него, словно видел его впервые.
Винокур был серьезен, бледен и, как всегда, подтянут и доброжелателен.
Когда он ушел, девушка-секретарь сказала:
— Кажется, все. Сейчас доложу о вас.
У Рондлина замерло сердце, он поперхнулся и опять что-то пробормотал.
Она скрылась за дверью кабинета и задержалась там дольше, чем тогда, когда по-домашнему вносила вазу с яблоками.
— Товарищ Рондлин, — произнесла она, появившись, каким-то другим, холодным и бесстрастным голосом, — вашими вопросами занимается товарищ, — она назвала фамилию улыбчивого молодого человека, — спуститесь вниз, его кабинет первый налево от лестницы.
Рондлин вышел и поймал себя на том, что он, как и те директора, почему-то втянул голову в плечи.
Дверь в кабинет молодого человека была полуоткрыта. Его там не было. Но вскоре он появился, стремительный, жизнерадостный и улыбчивый.
Обхватив Рондлина за плечи и не закрывая двери, усадил его в кресло напротив себя и, улыбнувшись, дружески сказал:
— Я вас внимательно слушаю.
Строго продуманный порядок беседы спутался, и Рондлин неожиданно для себя начал так:
— Это очень хорошо и правильно, что вы переименовали Слуцкую улицу в Дзержинскую. Это правильно. Потому что на Слуцкой улице, на углу, была синагога Аврома Юдула, а теперь в ней стал клуб НКВД.
На лице молодого человека появилась какая-то легкая тень.
Рондлин уловил ее и перешел к своей идее:
— Я хочу предложить: к Великому Празднику двадцатилетия Октябрьской революции в центре Бобруйска на здании гортеатра, на крыше, которая над входом в фойе, сделать грандиозную полуфигуру товарища Сталина в виде рулевого на корабле. Он будет обеими руками держать корабельный руль и смотреть вдаль. Вот как это будет выглядеть.
Рондлин раскрыл альбом и протянул его молодому человеку.
Наконец-то посторонний глаз увидел его продуманный и выстраданный замысел.
— Это прекрасно! — не произнес, а радостно воскликнул молодой человек.
Его решительной и не лишенной воображения натуре достаточно было одного взгляда, чтобы представить, как это все будет выглядеть на деле. Он даже привстал и пожал руку Рондлину.
И тут Рондлина прорвало. Он скороговоркой рассказал о том, что нельзя писать портреты Маркса там, где делают гробы, и что совершенно нельзя делать надгробия и памятники на улице имени Карла Маркса, и что совершенно неправильно называть Коммунистической зачуханную, всю в ухабах и покосившихся заборах Демидовскую улицу, по которой только и разъезжают одни ассенизаторы…
— Товарищ Рондлин! — прервал его молодой человек и, быстро встав, подошел к двери и плотно закрыл ее.
Он не успел договорить, как Рондлин выпалил свой убийственный и заранее заготовленный факт, против которого, как он решил, возражений быть не могло и должны быть тут же приняты срочные меры.
— А на пересечении Социалистической улицы с этой Коммунистической, прямо на самом пересечении, на огороде Гольдбурта, красуются сортир и помойная яма.
— Товарищ Рондлин! — с металлом в голосе, явно подражая Главному Начальнику, произнес молодой человек. — Я вам советую вовремя остановиться. Все эти ваши пересечения и параллели только на руку классовым врагам. Я очень хорошо к вам отношусь и советую прекратить эти параллели. Неужели вам непонятно, как наши враги ищут любую щель, чтобы пролезть в нее и произвести диверсию. Это от их рук уже который месяц горят опилки на гидролизном заводе, до сих пор не выяснено, кто поджег «Белплодотару» и кто готовит пожар на фабрике Халтурина.
Он был неплохой и внимательный человек, этот парень, которого Главный Начальник называл Сашей. Заметив, что Рондлин побледнел и опустил голову, словно он был виновником пожаров и диверсий, Саша, чуть тише и без металла в голосе, продолжал:
— Придет время, мы победим и застроим Коммунистическую улицу дворцами. О вашем предложении я доложу. Сортир на огороде уберем.
Главному Начальнику понравилась идея Рондлина. Он внес в нее существенное дополнение в виде больших объемных букв, составивших три слова:
РУЛЕВОЙ СТРАНЫ СОВЕТОВ.
Эти значительные слова должны были располагаться вдоль всей крыши, по бокам штурвала, на котором твердо будут лежать руки Кормчего.
После этого решающего дополнения идея целиком стала принадлежать Главному Начальнику, была согласована с Высшим Начальством и стала срочно претворяться в жизнь.
К исполнению грандиозного замысла были привлечены лучшие умы и руки города. Инженерная мысль разработала чертежи и размеры деревянного каркаса, к которому должно было прикрепляться само изображение. Его огромные размеры были определены и утверждены на специальном заседании партийно-хозяйственного актива с привлечением специального художественного совета, куда, конечно, вошел и Рудзевицкий. Были четко распределены обязанности каждого предприятия. Номерной завод должен был срочно изготовить необходимое количество листов фанеры особо большого размера. Мебельная фабрика имени Халтурина должна выделить нужное количество лучших мастеров для выпиливания из этой фанеры по контуру, за точность которого отвечает художник (фамилия Рондлина не была названа). Артели «Бытуслуги» предлагалось временно прекратить сколачивание посылочных ящиков с отверстиями и направить все силы на изготовление по чертежам объемных букв для слов «РУЛЕВОЙ СТРАНЫ СОВЕТОВ». Лесокомбинату было поручено выделить лучший строительный материал для срочной установки лесов каркаса. Рабочую силу из проверенных товарищей должен был выделить тот же лесокомбинат.
Не зря ходил Рондлин со своей идеей и замечаниями на беседу с Главным Начальником.
Верстак, гробы, вывески, жесть и прочий хлам быстро оказались на дворе «Бытуслуги». Там вполне можно было, пользуясь сухой и теплой погодой, продолжать работу.
Для ответственного изготовления объемных букв председатель артели освободил свой кабинет, где толковый Жора и Бурыла, поглядывая на чертежи, уже произвели на свет первые, похожие на ящики, объемные буквы.
В освободившееся помещение общей мастерской уже завозили огромные листы авиационной фанеры, и серьезный, как никогда, Рондлин, в рабочем переднике и чистой рубахе, куском угля, привязанным к палке, наносил первые контуры.
Он начал с огромной головы, занимавшей гигантский лист фанеры.
Околачивавшийся во дворе у своих вывесок Боря Вихман зашел полюбоваться золотыми руками Рондлина.
— Вот эта фанера так фанера, — с восторгом произнес он, — недаром из нее самолеты делают! Ее, наверно, и пуля не пробьет! Он еще раз пощупал фанеру, покачал головой, похвалил Рондлина и ушел.
Впоследствии, когда случится беда с трубочистами Чертками, Рондлин вспомнит слухи о дурном глазе Бори Вихмана.
Не зря ходил Рондлин со своими замечаниями к Главному Начальнику.
Правда, уборную в огороде Гольдбурта снести не удалось: слишком много жильцов большого двора пользовалось этим сооружением, и дело оказалось щекотливым. Но было принято соломоново решение — огородить сортир высоким сплошным забором так, чтобы он не был виден ни с Коммунистической, ни с Социалистической. Быстро огородили, но, видно, что-то не рассчитали, и нахально выглядывала его позеленевшая верхушка из-за нового сплошного забора.
Странное дело. Прошло столько лет. Ушло в небытие столько снесенных домов, давно рухнул когда-то новый забор, а сортир все стоит и стоит. На том же месте. На углу Социалистической и Коммунистической.
В тот же день, когда возводился забор на огороде Гольдбуртов, другая бригада проверенных специалистов сколачивала леса на крыше городского театра.
Необычное и непонятное строительство собрало толпу.
— Это что за виселицу строят? — удивлялся пожилой человек в потертом плаще: — Кого вешать будут?
Оказавшийся неподалеку ассенизатор Залмон Кац, наслышанный от Бори Вихмана, но плохо слышавший из-за своей ушанки начало вопроса, торжественно сказал: «СТАЛИНА!».
Несколько человек, стоявших поблизости, одобрительно, почти хором сказали:
— Правильно!
Трудно было определить смысл этого «правильно».
Их всех — и того в потертом плаще, и Залмона Каца, и всех сказавших «правильно», и стоявших рядом с теми, кто это сказал — увели из толпы туда, где могли точно разобраться в смысле их слов, а разобравшись, отпустить. Для уточнения при разбирательстве понадобилось затем арестовать еще и некоторых их родственников и знакомых. Все это делалось для уточнения истины, и всех невиновных должны были скоро отпустить.
Правда, никто из них домой никогда не вернулся.
Рассказывают, что, когда все было окончательно готово и на крыше городского театра, над словами из объемных букв, возвысилась огромная полуфигура Кормчего, в город на трех «эмках» приехало Высокое Начальство из Минска. Осмотрев сооружение, Высокое Начальство поблагодарило городские влас™ за хорошую подготовку к празднику и порекомендовало другим городам срочно заимствовать бобруйский опыт.
Рассказывают, что сторож городского сада имени Челюскинцев, гонявший ворон стрельбой из самопала, взял под свою защиту изображение Кормчего и однажды, когда эти каркающие и пачкающие твари целой стаей уселись на фанерной фуражке, плечах и штурвале, взял да и стрельнул в их сторону.
Не успел утихнуть вороний гам, не успела стая усесться на деревьях и на еще не снесенном соборе, как сторожа увели.
Рассказывают, что осенними ночами, когда небо подсвечивалось заревом бесконечного пожара на гидролизном заводе и изображение Кормчего превращалось в огромный мрачный силуэт, какие-то люди в штатском, шурша опавшими листьями, настороженно, по-кошачьи, прохаживались вокруг городского театра.
Мой отец не поджигал «Белплодотару». Но он должен был в этом сознаться. Он должен был заодно раскрыть план уничтожения фабрики имени Халтурина путем организации там пожаров. Он должен был пока сознаться только в этом.
И его били.
И я сейчас, через столько лет, взвалив на себя груз этого рассказа, становлюсь двенадцатилетним мальчишкой, прижимаюсь к нему спиной, раскидываю руки, защищая его, и, срывая голос, кричу:
— Не смейте его бить! Это мой папа!
А они бьют его и меня по голове и пояснице, отбивая разум и почки.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Медведь встал на дыбы и застыл. Его плотная шерсть отливала сиреневым. Из задранных кверху лап злым металлом выглядывали острые когти. Где-то высоко яростным желтым светом горели глаза зверя, а из раскрытой пасти торчали клыки.
Мальчику стало страшно, и он прижался к отцу Только его теплая большая необходимая рука спасла от крика.
Человек в рабочем халате, разговаривавший с его отцом, присел на корточки и приблизил свое доброе лицо к лицу мальчика:
— Не бойся, это ведь чучело, он не настоящий. И настоящего Топтыгина не нужно бояться. Ты знаешь сказку о Топтыгине?
Мальчику стало смешно и весело. Он выпустил руку отца и увидел залитую солнцем очень большую и высокую комнату, тесно заполненную застывшими в живом беге и полете зверями и птицами.
Над огромным чучелом медведя, расправив крылья, парил коршун. Здоровенный волк, не обращая внимания на распустившую хвост лису, куда-то мчал по своим волчьим делам, а длинноухие зайцы, их было трое, ничуть не пугались серого и мирно беседовали у заросшего мхом пенька в компании ежей и белок.
В углу, на корявой ветке, нахохлившись и мерцая круглыми глазищами, задумалась сова.
Над ночной вещуньей в косом угловатом полете дергались таинственные летучие мыши.
А там, за стеклом, всеми красками мира удивляли и радовали птицы, маленькие и большие, лимонно-желтые и ласково-розовые, изысканносерые с крапинками бронзы и пронзительно синие. И совсем удивительная птица, меняющая цвет своих перьев от небесно-голубого с белым и черным до изумрудно-зеленого.
Добрый человек в рабочем халате подошел к мальчику.
— Тебе нравится эта птица? Это сизоворонка, или ракша, или сивокряк. У нее три имени.
Потом он отошел к окну, где стоял отец мальчика, и они продолжали о чем-то говорить.
А мальчик, посмотрев в их сторону, понял, что они дружат и говорят о чем-то хорошем. Это совсем успокоило его, и он снова стал любоваться удивительной птицей, тихо повторяя:
— Сизоворонка… Ракша… Сивокряк.
Когда же это было?
Наверно, за много лет до того, как увели этого человека и беда, ошеломив его дом, вскоре пришла и в наши комнаты на Шоссейной, 44.
Как-то в лесу под Бобруйском я нашел птичье перо неземного, меняющегося цвета. И откуда-то из давнего-давнего вырвалось:
— Сизоворонка… Ракша… Сивокряк…
И встало то зимнее утро, солнце сквозь морозные узоры в окнах, залитая его светом большая высокая комната, тесно заполненная живыми, искусно сделанными чучелами зверей и птиц, и два человека, чем-то очень похожих друг на друга, — мой отец и директор музея Славин.
Когда же это было?
Наверное, за много лет до того, когда балагула Лейба Динабурский положил на обе лопатки борца Стрижака, и намного раньше той ночи, когда сообщили, что враги народа убили Кирова. Это было задолго до этого.
Это было в тот год, когда родилась моя сестра Соня, а у Шмула отобрали дом и лавку и они с Нехамой стали называться лишенцами.
В тот год отбирали дома у многих, тем более у таких богатых людей, как этот, еще один мой однофамилец Михул Рабкин. Ведь у него, кроме красивого особняка во дворе, был еще и флигель, а в нем артезианский колодец — такое большое колесо с ручкой, при помощи которой колесо раскручивалось, и чистейшая вода гулко и мощно заполняла подставленные ведра.
Вода в колодце Михула Рабкина была всегда, даже если ее не было ни в одной городской колонке.
Дом этот, конечно, нужно было отобрать. Вместе с колодцем и флигелем.
Куда девался потом этот Михул Рабкин, и кто он был, и откуда у него взялись средства и такой тонкий вкус, чтобы выстроить действительно красивый и большой дом, я не знаю. Не догадался расспросить Зину Гах, а сейчас узнать не у кого.
Дом этот, конечно, нужно было отобрать. В нем вполне могли расположиться городские власти, но Главному Начальнику не понравилось отсутствие полноценного второго этажа, где мог быть устроен его кабинет. Какие- то странные две небольшие комнаты и крутая узкая лестница, ведущая к ним, вот и весь второй этаж.
Дом, где находился Главный Начальник до этого, оказался лучше, удобней, внушительней, и особняк решили передать под музей этому одержимому просветительством библиотекарю, который деревянную халупу во дворе бывшей женской гимназии превратил в собрание разных детских поделок и старых вещей.
Попадаются же такие настойчивые чудаки-просветители, для которых создание городского музея становится жизненной необходимостью.
К тому времени деревянная халупа, которую уже стали называть музеем, была до отказа переполнена разной всячиной, а он сам успел изрядно надоесть начальству своими просьбами о выделении приличного помещения под эти экспонаты.
Словом, с помещением повезло.
Так пришел Славин в бывший особняк Михула Рабкина.
Может быть, не окажи городское начальство такой чести этому настойчивому чудаку, задохся бы его дар в прогнивших стенах деревянной халупы. Может быть, тогда не прославился бы созданный им музей, и он сам оказался бы где-то в стороне от погубивших его событий.
Он сам подталкивал эти события, живя в каком-то нестихающем ровном порыве и жажде создать настоящий музей, достойный города.
Заселив с помощью мастера-чучельника Сумейко гостиную Михула Рабкина зверями и птицами и укрепив над ее массивными дверями табличку с надписью «Отдел природы», он подготовил и стал заполнять другой зал, над входом в который уже было написано «Отдел промышленности».
Вы, наверное, улыбнетесь. Какая такая промышленность была в то время в Бобруйске?
Но не одни же веревки, валенки и мармелад умели делать в городе!
А швейная фабрика имени Дзержинского?
А мебельная фабрика имени Халтурина?
А гидролизный завод?.. Правда, он все время горел, и пожарники считали его своим постоянно действующим объектом, но все-таки там делали спирт.
И, наконец, это я скажу с гордостью, потому что об этом даже говорится в «Письме белорусского народа Великому Сталину», и эти слова я еще тогда выучил наизусть и уверенно читал каждому, кто пытался принизить значение города, в котором я родился:
…Лясоў у нас многа,
И мы збудавали
У Бабруйску сусветны
Лясны камбинат…
«Сусветны» — это значит всемирный, мирового значения.
У нас в городе еще был лесокомбинат мирового значения.
И везде работали люди, которых Славин знал и любил, и он хотел, чтобы то, что делали их руки, было показано в музее в виде небольших макетов.
Там, в этом зале, где Славин увлеченно, словно читал любимые стихи, рассказывал экскурсиям школьников и солдат о том, что умеют делать в Бобруйске, кроме макетов, были еще и списанные старые станки — подарки музею от предприятий города. Станки были отлажены, смазаны и, стоило Славину прикоснуться к каким-то кнопкам, начинали всерьез гудеть, жужжать и вращаться.
Еще прикосновение — станки выключались, медленно останавливались, гася свой шум в наступившей тишине, в которой лишь чуткое ухо могло уловить скрип ремней и сапог и чей-то быстрый, восторженный шепот.
Конечно, не старые станки удивляли слушателей. Их короткая и совсем обычная работа была лишь сопровождением, фоном, воображаемой иллюстрацией того промышленного будущего пока маленького города, в котором уже есть столько предприятий с такими умельцами и знатоками своего дела, о которых так радостно и возвышенно рассказывал Славин.
Среди старых станков стояли макеты тех вещей, которые уже выпускали в городе, а среди них тот злополучный макет знаменитого шкафа «Мать и дитя», который был новейшим достижением мебельной фабрики. В широкой его половине, которая была «мать», можно было развешивать пальто и платья, а в узкой пристройке — «дитя» — были полочки для белья.
Очень остроумный такой шкаф, вполне соответствующий своему названию и назначению.
Крик моды.
Изготовляли этот шкаф «Мать и дитя» прочно, на совесть.
А его макет для музея был совсем превосходен, да еще и трижды был покрыт первосортным лаком, отчего выглядел заманчивой игрушкой. А если прибавить к нему много раз покрытые лаком маленькие стулья и табуретки и выставить этот игрушечный комплект временно для обозрения, например, на городской выставке достижений народного хозяйства, то какое детское сердце не воспылает желанием получить эту, именно эту мебель для своих кукол?
Может быть, сюда и забралась причина того, что потом случилось с Цодиком Славиным?
Или начало причины?
Или были другие причины?
Ведь их потом было много, слишком много для одного человека. Для того, чтобы убить только одного человека.
А может быть, как мы уже поняли раньше, никакой самостоятельной причины не было. Было ВРЕМЯ, и оно само назначало причины.
Однажды во двор одного из братьев-балагул Фишманов, известных хамов и хулиганов, отличавшихся от упрямцев Аксоным непонятной отзывчивостью, зашел директор музея Славин.
Потом, много лет спустя, балагула Неях Фишман, сидя на лавочке у своих ворот в вылинявшей, когда-то красной рубахе, не заправленной по случаю жары и тяжелого живота в засаленные брюки, почесывая сквозь расстегнутый ворот заросшую сединой грудь, будет рассказывать своим внукам и их сопливым приятелям странную историю о том, как он имел возможность полетать на своей телеге над городом, если бы тогда прицепили к телеге крылья, а к авиационному мотору который он перевозил из авиагородка в музей, — пропеллер. При этом он разрешал всей ораве зайти во двор и пощупать телегу.
Телега с задранными в сторону неба оглоблями выглядела внушительным подтверждением истории, давно известной всей улице имени Карла Либкнехта, которую по старой памяти упорно называли «Бейсэйломгас», что в переводе означает «Кладбищенская».
Славин жил недалеко от дома Фишмана и пришел к нему по делу как к отзывчивому соседу и обладателю собственного транспорта. Необходимости в срочной перевозке очередного экспоната в музей не было. Можно было и обождать, пока закончится суматоха с предстоящими маневрами и предполагаемым участием в них самого Ворошилова, и потом спокойно на любой военной или гражданской полуторке с помощью солдат перевезти этот долгожданный подарок летчиков на давно приготовленное для него место в зале, где была представлена промышленность города.
Конечно, никакого отношения к промышленности города этот мотор самолета не имел. Но разве мог город, в котором большую, правда, засекреченную, часть населения составляли военные, — а среди них было много красивых парней с: голубыми петлицами, — обойтись в своем музее без мотора самолета?
Мотор был необходим. Это его могучее дыхание, сливаясь с ревом подобных ему машин, переходя в нарастающий привычный гул, где-то там, за Березинским форпггадтом, вдруг взмывало вверх, в чистоту предутреннего неба, рассыпаясь в его прохладном просторе отдаленным и спокойным рокотом.
И не одна юная, рано проснувшаяся на его зов душа осторожно, чтобы не разбудить домашних, выбиралась через окно в еще полутемный сад и бежала, сбивая росу с укропа и маков, к тому месту, где отягощенные плодами ветви не мешали наблюдать розовеющее небо и в нем чудеса высшего пилотажа и смелости, сотворенные другой, созвучной ей душой. И, охваченная этим созвучием, юная душа говорила:
— Я тоже буду летать!
«…Они будут мечтать и будут летать, и мотор этот необходим музею», — думал Славин ранним утром следующего дня, вышагивая своей чуть подпрыгивающей походкой за телегой Неяха Фишмана.
Неях подготовился к поездке в авиагородок по первому разряду.
Телега была вымыта, застелена сеном, поверх которого был брошен еще не истертый, почти новый брезент. Для большей торжественности в челку своего битюга Неях вплел красную ленту, и она празднично трепыхалась, перекликаясь с оранжевой дугой, размалеванной зелеными поперечными полосками.
Они почти не разговаривали. Славин думал о своем, а Неях из уважения к его молчанию, стараясь быть деликатным, тоже молчал, правда, время от времени, замахнувшись кнутом, он обращался к своему задастому, космоногому и сонному тяжеловозу с таким набором профессиональных выражений, от которых Славину становилось не по себе и вернуться к мыслям о музее было трудно.
Не доезжая до переезда, им пришлось остановиться. Очевидно, приближался поезд. Из крашенной охрой будки, обсаженной настурциями, не спеша вышел мужчина в галифе и светлой рубахе и опустил шлагбаум.
В очереди скопившегося транспорта телега Неяха оказалась рядом с домом, где когда-то жил в то время еще не забытый, а во времена Шмула и Нехамы знаменитый доктор-бессребреник Фаертаг.
Добрая половина города любила пересказывать известные истории удивительных исцелений уже попрощавшихся с этим миром нищих, очнувшихся здоровыми, да еще с деньгами под подушкой, куда их клал «на поправку» добрый доктор.
— Дом Фаертага, — кнутом показал Неях.
— Знаете, что люди делали, когда он сам болел, чтобы на улицах было тише? — спросил Славин. — Ведь в той стороне, куда мы едем, размещался артиллерийский полк царской армии, и тяжелые пушки и кованые кони по булыжникам грохотали так, как будто шла война. Тогда люди рубили под Титовкой еловые лапки и застилали ими всю улицу до самого переезда.
— Он стоил того, — сказал Неях, выпятив нижнюю губу и задрав подбородок.
Вскоре послышался звук рожка, потом приближающееся пыхтение паровоза.
Бесконечный эшелон из теплушек и платформ с красноармейцами и лошадьми, заканчивающийся еще одним натруженно дымящим паровозом, медленно прогромыхал в сторону Осипович.
Клубы дыма, заслоняя уже довольно высоко поднявшееся солнце, плыли над Пушкинской улицей, над домом Фаертага и задумавшимся Славиным.
— Поехали, — сказал Неях.
В авиагородке, несколько раз предъявив необходимые распоряжения и пропуск, они добрались до длинного помещения с зарешеченными окнами, откуда несколько парней в вылинявших гимнастерках с трудом вытащили и укрепили на тел^еге долгожданный мотор самолета.
Не вмешивавшийся в погрузку Неях ткнул кнутом в сторону мотора и спросил:
— Он настоящий?
— Настоящий! Хоть сейчас можно завести и лететь, — пошутили парни.
— А где пропеллер? — уже по-хозяйски поинтересовался Неях.
— Там… — неопределенно и, как показалось Славину, что-то недоговаривая, ответили парни.
— Поехали, Неях, — поторопил Славин балагулу, но тот продолжал интересоваться необходимыми для полета крыльями и хвостом.
И только услышав от парней:
— Главное — мотор, а хвост и крылья — дело наживное! Поезжай, дядька, тебя ждут! — взобрался на телегу и, зажав вожжи в левой руке, правой сделал какое-то быстрое кругообразное движение у мотора, словно заводил его.
Движение это он повторил несколько раз, потом крикнул:
— Но! — дернул вожжи, и телега тронулась.
Всю дорогу Неях напевал: «Все выше, и выше, и выше…», разводил в стороны, словно крылья, руки, время от времени подкручивал мотор, прикрикивал: «Но!» — добавляя необходимые профессиональные выражения, перемешивая их со словами авиационного марша.
Шагавшему за телегой Славину вначале показалось, что Неях спятил, но потом он понял, что это играло нереализованное в детстве воображение Неяха Фишмана.
И, собственно говоря, кто может запретить воображать?
Для этого нужно слегка сойти на короткое время с ума — и воображай себе, что ты начальник или летчик, и телега твоя, освободившись от тяжелого битюга, летит и кружит над городом.
Для этого нужно только на очень короткое время сойти с ума, а потом очнуться.
Но не дай Бог, если это случится надолго, насовсем, как это случилось с городским сумасшедшим, прозванным «А копике» — «копейка».
Он однажды вставил в глаз копейку и вообразил, что через нее видит все, что происходит в мире. И с тех пор сообщает всем, кто проходит мимо его поста на Социалистической у магазина, где директор Столин, о том, что во Франции расцвели розы, а в Германии идет снег.
Может быть, сейчас, пока Славин везет на телеге Неяха Фишмана новый, необходимый музею экспонат, я смогу бегло, а не так, как они этого заслуживают, рассказать о наших сумасшедших.
Тем более что упоминание о них сохранилось в пожелтевших и превращающихся в труху протоколах той злосчастной и гибельной для Славина сессии горсовета, на которой решался вопрос подготовки города к празднованию Юбилейной Великой Даты.
Уважаемый всеми бобруйчанами создатель городского музея Славин трижды избирался депутатом горсовета.
Он много сделал, как принято было тогда говорить, на ниве народного просвещения, но в то время, когда над ним сгущались тучи, он не должен был так свободно выступать на этой сессии.
Нужно было заранее хорошо подумать или вообще помолчать.
В общем, как потом сказала одна влиятельная, желающая Славину добра депутатка:
— Зачем вы так выступали? Вы настоящий сумасшедший!
Оставим это определение на ее совести, тем более что и ее год спустя постигла та же страшная участь.
О той сессии — после, когда ей придет время в моем рассказе, а сейчас о наших сумасшедших, коротко, пока балагула Неях Фишман везет мотор самолета в городской музей, где экспонату приготовлено почетное место.
У кино «Пролетарий» стоит, скрестив руки в локтях и обняв вздрагивающими пальцами худые плечи, краснолицый, всегда потный и взволнованный Меер. Он влюблен во всех проходящих женщин и, не переставая, восторгается ими громкой торопливой скороговоркой:
— Красавица, какая красавица, какие цыцки, какие ножки…
Беспощадный диагностик доктор Беленький определил: «Сексуальный маньяк, страдающий сахарным диабетом».
Как без всяких анализов знаменитый доктор определил у сумасшедшего сахарный диабет, неизвестно.
Может быть, по пчелам и осам, что постоянно вились над расстегнутой ширинкой Меера?
Ранним утром, когда только раскрывались ставни, у окон, постукивая железным посохом, появлялась странная фигура Андриана. На нем были длинная рыжая обгоревшая шинель и каска с шишаком. Говорили, что это каска убитого им в мировую войну немца. Он молча стоял под окном, пока не появлялась хозяйка, и спокойно спрашивал:
— Хозяюшка, нет ли у вас дохлой курочки?
Его кормили, и он, постукивая своей железной палкой, уходил.
Суетливо бегал по улицам давно выросший из рваного костюма, длиннорукий и тонконогий, осыпанный веснушками Юда.
Говорили, что он бесконечно ищет колодец, в который упал в раннем детстве.
Услышав женский голос, старательно исполняющий неаполитанские романсы с какими-то нелепыми словами, вы могли наткнуться на мужчину по кличке Пани Лившиц. Собрав вокруг себя небольшую аудиторию, он торжественно объявлял следующий номер и игриво, словно певица, поправляющая концертное платье, проводил руками по своему лоснящемуся, залатанному, но отутюженному костюму и, закатывая глаза, продолжал очаровывать публику.
Мудрый сумасшедший Мома со стопкой книг под мышкой больше молчал. Наверное, поэтому и был уважаем. Лишь иногда он разражался короткой, спокойно произносимой речью, в которой были горечь его несостоявшейся любви и оскорбление всем женщинам мира.
Ему это прощали.
Правда, однажды недавно прибывший в авиагородок летчик, еще не знакомый с особенностями города, защищая честь своей подруги, выхватил пистолет и направил его в сторону Момы.
Тогда Мома, забыв о русском языке, на котором произносил свою речь, вдруг закричал по-еврейски:
— Евреи! Скажите ему, что я сумасшедший!
Кроме этих знаменитых и ярких личностей, в городе было еще немало посредственных, ничем особенным не выделявшихся сумасшедших.
Вы можете сказать:
— Зачем так много сумасшедших?
Не так уж много для такого города и того времени.
Многие из них даже работали, принося пользу обществу. Например, Гилька по прозвищу Ба. Он бегал по городу и продавал газеты. И у него их быстро раскупали, потому что каждый раз он выкрикивал что-нибудь сенсационное:
— Московская газета «Правда»! Цены снижаются. В Африке умер король! Жизнь становится веселее! В Титовке война!
Но когда однажды он прокричал: «Московская газета „Правда“! Покупайте „Правду“! Сегодня никто не любит правду!» — и об этом доложили Главному Начальнику, то Главный Начальник приказал убрать этого идиота с ответственной работы и впредь продавать газеты только в киосках и без всяких выкриков!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Телега с мотором самолета остановилась у ворот музея.
Слегка отставший от нее Славин вошел в калитку.
— Яковлевич! Он опять пришел, вас дожидается…
Сторож Павел Головко кивнул в сторону флигеля, где в тени, над кустами шиповника, возвышалась, словно стояла на кустах, фигура человека. Вполне пропорциональная фигура очень сильного человека.
Странным было лишь то, что, стоя на кустах, человек не проваливался сквозь их листву.
Зрелище было обманчивым. У человека были ноги, которые стояли на земле. Очень длинные ноги, и, увидев человека целиком, можно было удивиться его могучим рукам и плечам и очень маленькой, не соответствующей его росту голове с добродушным, почти детским лицом.
— Павел Семенович! Скажите ему, что, как только поставим экспонат на место, я поговорю с ним, а если ему захочется, он может помочь нам.
Славин открыл ворота, и Неях, понукая битюга, въехал во двор.
Нелегко было молодым парням из авиагородка погрузить тяжелый мотор па телегу, а снять его, не повредив, протащить через распахнутые двери музея и установить на месте было совсем сложно.
Сторож Головко, Славин и балагула Неях подходили к мотору с разных сторон, но, убрав крепления, смогли лишь слегка сдвинуть его на середину телеги.
Тут из кустов шиповника, улыбаясь и хихикая, вышел этот нескладный гигант, обхватил и поднял, как тяжелую, но вполне удобную игрушку, мотор и произнес:
— Куда?
— Сюда, Адам, сюда, — указывал дорогу сторож Головко.
— Чуть-чуть левее, — попросил Славин. И мотор был установлен на назначенном ему месте.
— Ну что, Адам? Я же вам все объяснил…
— Нет, товарищ директор, я подумал и все равно хочу так сделать. Я же не беру за него денег, берите бесплатно. Не хочу в Академию наук, даже если там миллион дадут. Хочу, чтобы он здесь лежал, на втором этаже, где то лежит в стеклянном гробу, чтобы все видели. Давайте хоть сейчас…
Адам не был пьян, и вообще он не пил. Кто-то объяснил ему еще давно, что на его огромную массу, чтобы захмелеть, нужна бочка спиртного, а это очень дорого, лучше не пробовать, не начинать.
Он не был пьян, но нес для постороннего уха что-то совершенно несусветное.
Виновником его странной и настойчивой просьбы был Боря Вихман, обладавший, как известно, кроме дурного глаза и длинного языка, еще и даром сочинительства и хитроумной подначки.
Как-то копали под Глушей яму. Смолокурню собирались строить и наткнулись на скелет, не совсем скелет — почти человек, только высохший и окаменевший.
Скелет привезли в музей к Славину, а он заказал для скелета в «Бытуслугах» гроб — стеклянный ящик, чтобы все могли видеть эту мумию и понимать, что мощи остаются не только от святых.
Получив толчок для своего воображения, Боря Вихман, принимавший участие в изготовлении стеклянного ящика, стал присматриваться к недалекому и простодушному великану Адаму, промышлявшему перетаскиванием тяжестей на пристани и базаре. И однажды объявил ему, что есть решение ученых и начальства передать его редкий скелет в Москву в Академию наук, предварительно выплатив ему его полную стоимость по государственным расценкам с каждого погонного метра при предъявлении скелета, и что единственный выход для Адама, если он хочет остаться в Бобруйске и быть пока в живых, — это пойти в музей к директору товарищу Славииу, и упросить его принять скелет для городского музея, и получить от него разрешение пользоваться им пожизненно. Если такого разрешения товарищ директор не даст, то лучше все-таки лежать в стеклянном ящике на втором этаже музея в Бобруйске, чем валяться где-то в Академии наук в чужом городе.
Окончательно запутав и запугав Адама, Боря Вихман следил за его переговорами с музеем.
Адам уже не раз приходил к Славину и упорно навязывал ему свой скелет.
Славин, не желая обидеть Адама, объяснял, что музею достаточно одного скелета, который лежит в стеклянном ящике на втором этаже, где скоро откроется отдел религии.
Расстроенный Адам, не находя решения своего жизненного вопроса, уходил, цепляясь за ветки акации, когда-то посаженной Михулом Рабкиным у ворот особняка.
А Славин смотрел вслед нескладному великану, в маленькую голову которого злой шутник вбил эту мрачную идею. В прошлый приход Адама он попросил Степаниду, жену сторожа Головко, снять с великана портновскую мерку.
Решив, что это измерение относится к его делу, Адам охотно разрешил низкорослой Степаниде взобраться на табурет и произвести необходимые замеры.
На базаре на вопрос Бори Вихмана: «Как дела, Адам?» — Адам ответил: «Уже мерку сняли, наверно, будут заказывать ящик!»
Кроме Славина, весь штат бобруйского музея состоял из Степаниды и Павла Головко, лет пять тому назад бежавших от голода на Украине. Жили они во флигеле, обставив, как могли, небольшую комнату рядом с помещением, где находился артезианский колодец.
С собой они привезли домотканый ковер и швейную машинку.
— …Ну что, товарищ директор? Хоть миллион дадут, не хочу в Академию наук. Вы ведь мерку уже сняли, теперь, если можно, разрешение дайте. А если нельзя…
— Адам, — ласково перебил его Славин, — мерку сняли, чтобы сшить вам костюм. Ведь жарко, а ваша одежда истрепалась. Идите с Павлом Семеновичем к нему, он вас переоденет.
Славин стоял у высокого окна, оригинальную расстекловку которого когда-то придумал неизвестный архитектор, строивший особняк Михулу Рабкину, и ждал, когда появится из флигеля переодетый Адам.
Он появился весь в светлом, сшитом умными руками Степаниды не костюме, а одеянии, ибо скрывало оно все недостатки его нескладной фигуры и придавало его доброму лицу радость и уверенность.
Он шел мимо кустов розового шиповника по дорожке опытного участка, где среди разных саженцев и цветов росла наперекор всем предсказаниям тропическая соя.
Он вошел в здание музея и подошел к Славину, все еще стоявшему у окна:
— А разрешение?
Славин понял его и на плотном листе бумаги, опираясь на подоконник, написал какие-то слова, сложил лист вдвое и отдал ему.
…Когда хитроумный Боря Вихман на базаре подошел к великану с заготовленным очередным вопросом, тот молча вынул из бокового кармана парусинового пиджака сложенный вдвое лист и раскрыл его.
На листе крупным, сильно наклоненным вправо почерком Славина было написано: «Живи, Адам!»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Старые журналы… Конечно, не такие старые, как те, защищенные толстой коричневатой кожей, написанные чуть ли не на пергаменте огромные древние фолианты, расставленные на полках по стенам у седобородого философа Александрова. И не такие старые, как книги, когда-то и кем-то снесенные на чердак, забытые их умершими хозяевами и вновь найденные сорванцами — искателями приключений, проникшими по ржавым крышам, сквозь слуховые окна, в таинственные, пахнущие кошками чердачные недра.
Этим старым журналам было не так много лет, но в них была недавняя история, и сквозь слабый, почти выветрившийся запах типографской краски они пахли революцией, гражданской войной, нэпом и коллективизацией.
Журналы эти были нужны Славину для музея, и мой отец отдавал их ему.
Они сидели у раскрытого в сгущающуюся ночь окна и листали, словно прожитую жизнь, страницы старых журналов.
— Спасибо, Исаак, — сказал Славин.
Потом они вышли на ночную Шоссейную.
Душная тьма разрывалась сполохами зарниц. Где-то там, где, теряясь во тьме, Шоссейная уходила на запад, сполохи вздрагивали все чаще и чаще, словно накапливая силу для грозы.
В такую ночь в притихших лесах за Березиной, под тяжестью густого наэлектризованного воздуха, затаившийся зверь прижимается к земле и ищет укрытия.
В такую ночь созревает рябина и крестятся старухи.
— Войной повеяло… — сказал отец.
Долгая вспышка зарницы осветила, словно всплеском пламени, пустынную Шоссейную. Где-то очень далеко, за Каменкой, послышался приглушенный нарастающий рокот грома.
— Приближается, как война, — ответил Славин.
Но до войны еще было целых пять лег, и им не пришлось увидеть освещенную заревом пожаров зловеще-пустынную Шоссейную, по которой, скрежеща и лязгая металлом, чадя бензином и гогоча чужим языком, разбивая окна и пристреливая собак, в город ввалится Нашествие.
Доживи они до этого часа, взяли бы они в руки оружие и погибли бы на первых рубежах войны, и затерялись бы их имена среди миллионов других имен в запоздалых сводках о потерях.
Но они не дожили до этого времени, ибо жить каждому из них оставалось чуть больше года.
Славин не спал. Уже которую ночь бессонница посещала его, заставляя еще и еще раз вспоминать приход этого стукача Рудзевицкого в музей и его наглое предупреждение «не раздувать кадило», как он выразился, из этой истории с игрушкой-макетом, которая так понравилась детям Шендерова.
— Не забывайте, кто он такой… — несколько раз повторил тогда Рудзевицкий.
Славин был возмущен, а Рудзевицкий, не обращая внимания на его гнев, знай себе похаживал по натертому воском полу и что-то важно записывал в свой блокнот.
Тогда Славин объяснил ему, что, входя в музей, нужно снимать галоши и что эго знает каждый школьник, и даже военные, у которых галош нет, тщательно вытирают сапоги, еще не входя в помещение, а потом еще пользуются тряпкой, заботливо разложенной уборщицей Степанидой.
Рудзевицкий галош не снял, не торопясь, закончил свои записи, сложил блокнот и, оставляя на паркете грязные следы, ушел.
Сторож Головко, растапливавший в коридоре изразцовую печь, проворчал:
— Бисов писатель, — и стал вытирать пол.
Макет шкафа «Мать и дитя», трижды покрытый лаком, принадлежавший музею и входивший в его экспозицию в самом светлом углу зала промышленности, над которым было паписано: «Эго делает наша фабрика имени Халтурина», — так и не вернулся в музей с торжественной выставки достижений народного хозяйства, устроенной в городском театре по приказу Главного Начальника в ознаменование года Великого Юбилея.
Макеты стульев и кожаного дивана вернулись, а трижды покрытый лаком красавец макет «Мать и дитя» пропал.
Чуть позже, пустившись в розыски, Славин узнал, что этот шкафчик очень понравился детям грозного Шендерова и прямо с выставки переехал в их детскую.
Через несколько дней после появления Рудзевицкого в музее Славин, дождавшись выходного дня, когда сам Шендеров должен был быть дома, пришел за экспонатом.
Шендеров, скрипя сапогами и поправляя френч, вышел к нему в переднюю, пожал руку и, узнав причину его прихода, скрылся за дверью, откуда вскоре донеслись хныканье и нытье.
Шендеров вынес шкафчик, передал его Славину, молча открыл входную дверь, пожал Славину руку и посмотрел ему вслед.
После возвращения экспоната в музей прошло уже много времени, но какое-то чувство гадливости и возмущения не покидало Славина.
Стараясь избавиться от бессонницы и от этого надоевшего и разъедающего душу чувства, он слушал, как ветер скребет и ударяет по ставням ветвями яблони, и думал о музее, о восковых фигурах священнослужителей, заказанных им для отдела религии и недавно установленных в комнате на втором этаже.
Наверное, их нужно поставить вместе с мумией. Пусть они стоят над ней, словно молятся. Пусть православный священник, поднявший глаза к нему и одетый в серебряные одеяния ксендз и накрутивший на руку «тфилин» раввин, раз они появились в музее города, где уживаются эти три религии, стоят рядом над этой мумией и молятся. Ведь неизвестно, в какого Бога верил тот, чьи останки лежат в стеклянном ящике.
Увлеченный своим решением, Славин оделся и, стараясь не разбудить домашних, ушел в музей.
Была та пора ночи, когда сторожа, даже самые усердные, спят.
Он и не стал заходить во флигель к Головко. Своим ключом открыл дверь ос обняка, миновал коридор и зал природы и по узкой скрипящей лестнице поднялся в комнату, где стояли священники. Только здесь он включил свет и стал размечать места для будущей экспозиции.
Усилившийся к рассвету ветер громыхал сорванным листом кровли.
— Нужно завтра пригласить кровельщиков, — подумал вслух Славин. И в ответ вдруг услышал:
— Яковлевич, для вас и ночи нет! — В дверях стоял сторож Головко с топором в руке: — Ля подумал: воры!
— Давайте поработаем, Павел Семенович, — улыбнулся Славин.
Когда совсем рассвело, священники стояли над гробом, где лежала мумия, и молились, а сторож Головко прибивал над дверями табличку с надписью «Отдел религии».
Над Славиным стали сгущаться тучи. Что-то непонятное, тревожное, еще не выразившееся в каком-то определенном действии, но заметное в силе рукопожатия и взгляде некоторых начальников, с: которыми ему приходилось встречаться, уже проявлялось.
Раньше руку пожимали крепко и в глаза смотрели прямо и радостно, словно счастливы были встретиться и поговорить с человеком, изучившим три иностранных языка, играющим на скрипке и доказавшим, что соя может расти в Бобруйске так же свободно, как грибы в Черницких лесах или яблоки в саду у Матли.
Теперь руку подавали вяло, словно мочалку, и туг же выдергивали. А глаза вообще отводили в сторону.
Казалось бы, ничего конкретного эти вялые рукопожатия не выражали, но глаза начальников, отведенные в сторону, и быстрые, любопытные и чуть испуганные взгляды их секретарш о чем-то говорили.
Некоторую ясность внесла влиятельная, желающая Славину добра депутатка. С ее слов выходило, что у начальства есть мнение о том, что директор музея, он же депутат городского Совета Славин, зазнался и зарвался, кроме того, он неправильно понимает арест преподавателя белорусского языка Шумяковского и в беседах со многими товарищами защищает этого отпетого нацдема.
Еще, оглянувшись вокруг, эта желающая Славину добра влиятельная депутатка сказала:
— Намечается ревизия музея…
Никакой специальной ревизии пока не было. Правда, зачастил в музей Рудзевицкий.
Пользуясь сухой погодой, он приходил без галош, но тщательно вытирал ноги о тряпку, разложенную Степанидой, потом медленно ходил по залам, разглядывая экспонаты.
Славина он старался не замечать, лишь прислушивался к его словам среди гула экскурсий.
Однажды, когда Славин рассказывал о бобрах, Рудзевицкий записал в своем блокноте:
«…Говорит, что до революции бобров было много, а сейчас трудящиеся их всех истребили».
Проходя мимо него, Славин глянул в блокнот:
— Что это за ерунду вы пишете?
Рудзевицкий вздрогнул.
— И чего вы испугались? — продолжал Славин.
Рудзевицкий растерянно посмотрел на чучело медведя, возвышавшееся над ним, и, как-то странно икнув, выдавил:
— Медведя…
— Стыдитесь, — сказал Славин, — его даже маленькие дети не боятся! — и повел экскурсию дальше.
Через несколько дней комиссия, или, как ее называла доброжелательная депутатка, «ревизия», действительно посетила музей.
Ничего грозного она собой не представляла. Улыбчивый Саша и еще несколько человек, тихо переговариваясь между собой и шутя, походили по залам, поинтересовались, почему в таком богатом отделе природы нет чучела бобра, на что Славин ответил, что этот экспонат изготавливается знаменитым мастером Сумейко. Удовлетворенная его ответом, комиссия ушла.
Задержавшийся в дверях улыбчивый Саша попросил Славина зайти к нему завтра и получить на руки решение комиссии.
В напечатанном на машинке в трех экземплярах решении указывалось на плохую политическую направленность работы музея, выразившуюся в отсутствии в некоторых его залах портретов вождей и в политически безграмотном названии «Отдел религии», тогда как отдел этот следовало бы назвать «Антирелигиозный отдел».
Улыбчивый Саша предложил расписаться на всех трех экземплярах и один вручил Славину.
— Ничего страшного, товарищ Славин, — сказал Саша, — мы надеемся, что вы исправите эти недочеты и все у вас наладится. А вообще музей у вас замечательный! — добавил он и широко улыбнулся.
Он был неплохой парень, этот улыбчивый Саша.
И действительно, ничего страшного не было. Была весна, и цвели сады…
А вы знаете, как в Бобруйске цветут сады?
Славин шел на сессию горсовета.
Широкий воротник белой рубашки аккуратно выложен поверх светлого пиджака, отутюженные серые в полоску брюки и начищенные еще с вечера зубным порошком парусиновые туфли украшали и молодили его.
Он шел свободной, чуть подпрыгивающей походкой к зданию городского театра, где через полчаса откроется сессия, на которой будет решаться вопрос подготовки к Великому Празднику.
Может быть, остановить его и увести в гудящие шмелями сады или в луга, где в знойном разноцветье трав несет свои еще по-весеннему широкие воды ослепительно синяя Березина?
Может быть, это спасет его?
Может быть, тогда не будет его выступления и гневной речи Главного Начальника? И не будет этой причины его гибели?
Может быть… Может быть…
Но Время уже заготовило достаточно причин, чтобы и без этой причины погубить его.
И нам придется ознакомиться с этими превращающимися в труху, кое- где четкими, а где-то совсем непонятными записями выступлений на той злосчастной сессии.
Сессию открывал Главный Начальник.
Все сказанное им было хорошо известно всему заполненному депутатами залу городского театра.
Зал аплодировал и вставал при упоминании имени Кормчего и аплодировал, не поднимаясь с мест, при сообщении о многочисленных достижениях в самом городе.
В последний раз торжественно назвав имя Вождя, Главный Начальник под гром аплодисментов с шумом поднявшегося зала прошел по сцене и сел на свое место в президиуме рядом с Шендеровым.
Потом были звонкие выступления депутаток-женщин и на свой лад повторяющие их выступления мужчин.
Затем Главный Начальник попросил перейти к конкретным предложениям по подготовке города к Юбилейной Дате и сам объявил свои предложения.
Он предложил убрать с Октябрьской улицы, к сожалению, раньше именовавшейся Костельной, позорящие ее новое название остатки темного прошлого в виде памятников похороненным у костела ксендзам и этого никому не нужного камня с устаревшей надписью.
— Кроме того, необходимо, — добавил он, — заложить строительство стадиона «Спартак», для этого придется вырубить сначала кленовый парк, он слишком старый, а затем, в будущем, снести и сам костел.
После этого конкретного, значительного и в деталях продуманного плана были другие, менее значительные, но тоже интересные предложения.
Многим участвовавшим в этой сессии запомнилось выступление директора швейной фабрики имени Дзержинского.
Доложив об успехах тружеников фабрики в пошиве обмундирования для Красной Армии, он, понизив голос и придав ему душевность, сообщил о своем решении доступным и профильным для фабрики путем украсить город.
— Известно, — начал он, — что в нашем городе развелось много сумасшедших…
Споткнувшись о сдержанный хохот в зале, он постарался исправиться и начал снова.
— Известно, что в нашем городе собралось много сумасшедших!..
Опять хохот в зале.
Наконец он нашелся и, поддержанный Главным Начальником, призвавшим расшумевшийся зал к порядку, изрек просто и ясно — У нас в городе много сумасшедших!
Не наткнувшись на смех притихшего зала, он продолжал:
— И они имеют оборванный вид, чем позорят наш город. Беру на себя обязательство из отходов нашего производства к Великому Празднику сшить им всем новые фуражки!
Главный Начальник, а за ним и весь зал поаплодировали этому предложению.
Уходя с трибуны, ободренный аплодисментами директор швейной фабрики выкрикнул не то в зал, не то обращаясь к президиуму:
— Нужно только обеспечить явку сумасшедших для снятия мерок!
Следующим выступал директор электростанции. Он долго объяснял все сложности работы вверенного ему объекта, связанные с ростом количества потребителей электроэнергии.
— Поэтому, — сказал он, — нужно в период подготовки к Великому Празднику экономно, то есть реже освещать город, чтобы в дни Великого Торжества осветить город на полную мощность так, чтобы трудящиеся почувствовали, что Светлое Будущее не за горами!
Главный Начальник и весь зал поаплодировали оратору.
В этот раз депутаты аплодировали искренне. Потому что нехватка освещения и всякие другие нехватки и трудности были для них делом привычным и ничего не значащим в сравнении с той великой целью, с тем светлым будущим, в которое они верили и в котором пускай не они, но их дети будут обязательно жить.
Потом выступил Славин. Он тоже говорил о светлом будущем — о том, что его приходу не помогут выкрикивания громких лозунгов, а только дело, понятное и доступное каждому, приблизит это время.
— Вот, например, — обратился он к залу, — когда мы недавно отмечали столетие со дня гибели Пушкина, можно было рассказать людям, чго недалеко от нашего города, в Вавуличах, было имение его внучки Воронцовой- Вельяминовой и что это она посадила каштановую аллею вдоль нашей главной Социалистической улицы. Тогда бы и великий поэт стал всем ближе, проще и родней…
По-видимому, что-то неясное было в этом примере.
Главный Начальник нахмурился.
Шендеров закусил губу. Лица остальных членов президиума ничего не выражали.
А Славин продолжал говорить об уважении к истории города и о том, что нельзя сносить тот камень со словами благодарности за кров и хлеб, что дали бобруйчане полякам, бежавшим от кайзеровских войск в мировую войну И что не нужно беспокоить могилы ксендзов у этого камня.
— Я уже не говорю о кленовом парке и о самом костеле, — добавил он и замолчал.
Потом перевел дыхание и, пройдя по безмолвному залу сел на свое место.
…Главный Начальник поднялся над столом, оглядел зал и пошел к трибуне.
— Мы выслушали тут выступление директора городского музея. Вредное выступление, типичное троцкистское выступление, — чеканя каждый слог и наполняя голос металлом, начал он свою гневную речь.
У Славина мучительно заныло сердце, и продолжение речи доносилось до него откуда-то издали, какими-то бессвязными и бессмысленными отрывками.
— …А чего стоит его фраза о каштановой аллее!.. — донеслось до него.
«…Фраза… фраза… фраза…» — повторяющимся странным эхом застряло в сознании Славина непривычное для лексикона Главного Начальника слово «фраза».
Сквозь обрушившиеся на него обвинения и острую жалость к обреченной на снос красивейшей части города, сквозь шум в голове звучало все настойчивей это знакомое слово «фраза». И вдруг он вспомнил торжественные и печальные, как похоронный марш, строчки любимого поэта:
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел…
Музыка Шопена осыпала кленовыми листьями могилы ксендзов и горько пахла гортензией.
Жаль было старых кленов и прохладной, отвечающей гулким эхом высоты костела…
— А чего стоит его фраза о каштановой аллее! — продолжал или повторялся Главный Начальник. — Это заявление о каштановой аллее, якобы посаженной дворянкой, родственницей Пушкина, ни о чем не говорит, а только оскорбляет наш зеленхоз, который работает отлично. Пушкина мы ценим и знаем не меньше этого директора музея и разбираемся в творчестве поэта не меньше его. Сопоставление нашей Великой Даты с датой смерти Пушкина явно нездоровое и, я бы сказал, враждебное. Ну а призыв не сносить памятники ксендзам и этот камень с не нужной нам надписью на бывшей Костельной улице, а ныне Октябрьской, названной в честь Великого Октября, накануне Великой Даты звучит явно враждебно и заставляет задуматься, кому служит директор музея Славин.
Это уже был приговор.
Но это было еще не все.
Еще не истекли считанные летние недели, отведенные Славину Временем.
Однажды по дороге в музей он шел, задумавшись, и, опустив голову, разглядывал камни на обочине улицы.
Кое-где, в щелях между камнями, поднимали желтые головки запоздалые одуванчики.
«Какой стойкий цветок, — думал Славин, — весной первым поднимается и заполняет своим ярким золотым разливом свежую зелень — и последним встречает заморозки, прижавшись где-нибудь к крыльцу старого дома или к доскам забора».
Но до заморозков было еще очень далеко, был разгар лета, цвели тополя, и белый пух, медленно кружась в нагретом воздухе, оседал на садах и земле.
Кто-то окликнул его:
— Дзень добры, пане Славин!
Он поднял голову.
— Дзенькую бардзо за ваши словы на тым конгрессе. Ти ктуже лежать в гробах, и я бэиньдзем модлить сен за вас.
Ксендз, прижав руку к груди и чуть поклонившись, медленно перешел улицу и растаял в зное и тополиных хлопьях.
В этот день в музей приходили Рондлин и мастер Сумейко. Принесли чучело бобра в большом стеклянном коробе.
На задней стенке короба Рондлин, отложив свои государственные заказы, изобразил берег Березины и полузатопленные стволы деревьев.
Был еще плоский, довольно большой пакет.
— Это от меня музею, — сказал Рондлин, развязывая пакет, — я слышал, что это нужно…
В пакете был Маркс, и сторож Головко укрепил его на свободном месте в отделе сельского хозяйства.
На этот раз Маркс из-под кисти Рондлина вышел добродушным и чуть легкомысленным, даже приветливым.
Среди снопов и колосков он выглядел каким-то своим щатковским мужиком.
Ветерок сквозь открытую форточку шевелил колосья, тени от них прыгали по лицу вождя, и он начинал хитро подмигивать.
В начале августа, вечером, перед закрытием музея, пришла комиссия.
Посетителей уже не было.
Славина попросили запереть дверь изнутри и показать еще раз все экспонаты.
Состав комиссии был усилен и обновлен незнакомыми Славину людьми.
Ничего нового комиссия не нашла.
И тут Славин вспомнил, что в прошлый раз забыл показать материалы, не входящие в экспозицию, пока не разобранные, хранящиеся под замком.
…Словно голодная стая, накинулась комиссия на старые журналы.
Замелькали страницы прошлых лет, и послышалось:
— Вот враг народа и вот враг народа! И вот еще враг народа! Хватит, товарищи, не будем больше смотреть!
Все опечатать!
Славина увели из дома ночью.
В городе рассказывали странную историю, в которую хотелось бы верить.
Будто бы на следующую ночь к сторожу музея Павлу Головко пришел Адам и принес много водки.
Степаниды дома не было. Она уже несколько дней обшивала свою знакомую в Титовке и оставалась там ночевать.
Адам принес много водки, а Павел Головко объяснил ему, как ее пьют.
Когда они потом вышли во двор, то увидели, что окна на втором этаже музея светя тся. Оттуда доносился шум вроде пения на разные голоса.
Они поднялись наверх и увидели, что раввин, священник и ксендз, перебивая друг друга, каждый по-своему, нараспев, громко и тревожно молятся, часто повторяя:
— Цодик Славин…
— Цодик Славин…
— Цодик Славин…
Вот и все. Жена Славина пыталась наводить справки.
Ей деловито отвечали: «Осужден на восемь лет».
Потом, через некоторое время: «Осужден на десять лет без права переписки».
Потом: «Осужден на двадцать лет и отправлен в дальневосточные лагеря».
А оттуда: «У нас Цодик Яковлевич Славин не числится».
А его далеко не увозили.
Ведь судила «тройка», что гораздо проще и быстрее. Да и зачем загромождать поезда и прочий транспорт. Даже до Минска. Даже до Куропат.
Под Бобруйском есть прекрасные места с: глухими лесами и песчаной землей. Что он видел и слышал в свое последнее утро?
Какие птицы, потревоженные выстрелами, кружили над лесом?..
…Сизоворонка…
Ракша…
Сивокряк…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Давайте вернемся к Матле!
Туда, на Шоссейную, где старая липа и сад и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов.
Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьет модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы.
Чудесная улица эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней. И неистовым букетом, согревая и утешая меня, снова зацвели маленькие домики, деревья, заборы и калитки, булыжники и печные трубы…
Какую великую ценность возвращает мне Шоссейная!
Я вновь иду по Шоссейной, заглядываю в окна, прикасаюсь к шершавым ставням и прислушиваюсь к далеким голосам ее знаменитых обитателей…
Спасибо тебе, Шоссейная! Спасибо тому короткому времени, когда ты была мирной, и в воскресные дни, направляясь на базар, обозы из Каменки и Деднова останавливались недалеко от кино «Пролетарий», и хозяйки из соседних домов щупали кур и, весело торгуясь, покупали сметану и яйца.
…Проехал обоз, и бродячий пес укладывается подремать на разогретой ленивым солнцем отдыхающей булыжной спине Шоссейной…
Я иду по улице моего детства, держась за твою сильную руку, мой папа.
У нас так мало времени, чтобы быть вместе. Торопись, торопись рассказать мне все. Я запомню.
Я с тобой, моя красивая и молодая мама. Не плачь. Еще рано.
Дай мне прибежище, Шоссейная улица того времени, когда беды еще не обрушились на тебя.
Я кланяюсь твоим уцелевшим домам и твоим растаявшим во времени обитателям.
…Какие люди живут на Шоссейной! Какие знаменитости!
Смотрите, полюбуйтесь, какие колеса создает1 Йошка-колесник!
Что гам скрипки Страдивари!
Знаете, что такое настоящее колесо, сработанное руками Йошки-колесника? Это сложнее и, конечно, прочнее любой скрипки, это — целая песня, которая начинается со ступицы — центра колеса. Для ступицы нужно могучее дерево, нужен выдержанный и пропаренный в печи дуб.
Потом в созданной ступице нужно продолбить отверстия и с великим мастерством вогнать туда спицы.
А спицы? Для спиц нужно певучее дерево. Нужен ясень.
Спица должна быть ладной, стройной и прочной. А для ломовых извозчиков — особо прочной.
Недаром круглый ясень сушат и выдерживают годами, прежде чем мастер придаст ему нужную форму.
Теперь дело за ободом.
Знаете деревню Балашовку?
Видимо, сам лесной бог навалял недалеко от нее огромное множество колод и научил мужиков делать из них ободья и везти их в город к Йошке-колеснику.
И берет Йошка-колесник этот пахнущий мореным лесом обод и кладет на станок-колесню. И по какому-то только ему ведомому наитию натягивает обод на спицы.
Тут нужна музыка души и радость создания. Такого хватает на одно, от силы два колеса в день.
Но это еще не все.
Готовое колесо нужно оковать металлической шиной, набить на ступицу два обруча и вдеть в нее втулку.
Тут нужен кузнец, и не лишь бы какой, а единой с тобой души, так, чтобы готовое колесо было спето в один общий голос.
Для этого нужен, конечно, сам Хаим-Йоше.
И стоят над Шоссейной звуки струга и долота, смешиваясь с мерными, словно удары колокола, металлическими звуками из кузницы Хаим-Йоше.
Вот и покатились, начав свои обороты по Шоссейной, сработанные Йошкой колеса и бегут, грохоча по булыжникам и прокладывая колеи на песчаных трактах и лесных просеках, все дальше и дальше от Бобруйска, разбегаясь по убранной цветущим вереском и желтыми соснами задумчивой белорусской земле, и не один возница, задремав в лунную ночь под ровный бег коня, проснувшись от резкого толчка и перевалив через что-то — не то корч, не то вросший в землю камень, — пробормочет:
— Добрые колы робиць Йошка…
А Йошка-колесник, сын мудреца-колесника Аврома Немца, выспавшись в короткую летнюю ночь, наденет перед новой работой чистую рубаху и начнет творить извозчичий фаэтон или стройную, своей особой конструкции, телегу. Начнет легко и все быстрее прохаживаться стругом по жердине — будущей легкой оглобле, а маленькая Эстер, младшая в семье колесников, сидя на ней и удерживая ее своим незначительным весом, будет помогать брату…
…Поклон вам, кузнецы и колесных дел мастера! Поклон вам, знаменитости Шоссейной улицы!
…У вас испортился примус? Вы сломали не одну заправленную в жестяную ручку иглу, прочищая его, а он все чадит одиноким, колеблющимся, угасающим языком?
Идите к Наймаргону!
Стоит дотронуться его золотым рукам до вашего «больного», и он могуче загудит ровным золотисто-сиреневым упругим, во все кольцо горелки, пламенем.
Ваш случай — мелочь, пустяк. Не таких калек, место которым давно на свалке, излечивал и превращал в красавцев работяг Наймаргон!
Гудят расставленные на длинном, во всю стену, верстаке веселые примусы, улыбается, вытирая руки о фартук, Мастер.
Поклон вам, мастер Наймаргон!
Удивительная, необходимая улица — эта Шоссейная!
Ремонтировать часы несите только сюда, на угол Шоссейной и Пушкинской. Это неважно, с какой стороны вы зайдете. В окне, которое выглядывает из раскрытых ставней на кино «Пролетарий», выставлены часы, и окно, что прищурилось съехаБшим наличником на Пушкинскую, тоже увешано часами.
Сразу найдете. Правда, вход со двора, заросшего ромашкой и залитого солнцем.
Вам вначале покажется темным небольшой коридор, и сразу будет трудно прочитать на одной из двух дверей убедительную надпись: «Ремонт часов сюда».
Открывайте эту дверь и входите.
Мастер не повернется к вам и будет продолжать копаться в часах, а потом, так и не повернувшись, спросит:
— Так что с ними случилось?
Фамилия его Спокойнер. Он очень стар и словно покрыт седой пылью, но за часы будьте спокойны. Побывав в его руках, они еще послужат вашим внукам.
В полутемном коридорчике есть еще вторая дверь — это черный вход в комнаты парикмахера Флейшера. Парадный вход с Шоссейной через парикмахерскую, пропахшую «Тройным» одеколоном и изъеденную мышами.
Несмотря на кривые поскрипывающие под ногами половицы и треснувшее зеркало, в этом присевшем к земле, покосившемся, обитом серебристыми от времени досками доме любят стричься молодые крепкие парни из авиагородка. К их голубым петлицам и кубарям так и просятся «боксы» и «полубоксы», мастерски исполняемые Флейшером.
Этот, наверно, самый древний на Шоссейной, врастающий в землю угловой дом когда-то принадлежал торговке Хане Киммельман, и раньше, чем был украшен жестяной вывеской с изображением ножниц, и надписью «Парикмахерская», и гирляндами часов в окнах у мастера Спокойнера, был домом-лавкой, от которой остались застекленные двери с узкими окнами- витринами по бокам и здоровенные ржавые завалы, на которые закрывались ставни и деревянные двери, прикрывающие двери стеклянные.
Слава Ханы Киммельман как-то теряется среди знаменитостей Шоссейной улицы. Может быть, потому, что в какое-то время она уехала в Палестину и, пробыв там долгие годы, была забыта. Потом вроде бы вернулась и торговала в ларьке у кино «Пролетарий» зельтерской водой и конфетами «Барбарис».
Может быть, и она в свое время была знаменитостью, мастером своего торгового дела., ведь это не так просто, рассказывают старожилы, умудриться выставлять для продажи в узких окнах-витринах баранки и воблу, бюстгальтеры и хомуты, ухнали, колесную мазь и халву.
Качается в волнах моей памяти серебристый от старости покосившийся домик на углу Шоссейной и Пушкинской.
Стрекочет машинкой и ножницами парикмахер Флейшер.
Копается в часах часовщик Спокойнер.
Как сказал мой минский друг: «Поркауся у гадзініках гадзшщык».
Идемте дальше! Хотите в сторону станции Березина или туда, вниз по Шоссейной?
К Березине? Тогда опять парикмахерская и опять фамилия мастера — Флейшер. Флейшер-второй.
Если в кудрявой шевелюре Флейшера-первого кое-где намечалась седина, то Флейшер-второй был сед, строен и галантен. Казалось, сними с него белый халат и надень фрак — и готов министр или посол в иностранное государство. Если Флейшер-первый был, как говорится, и дома, и замужем, то есть мог в любую свободную минуту пройти в свои комнаты и вместо запаха «Тройного» одеколона, усевшись за стол, покрытый бархатной скатертью и наброшенной на нее клеенкой, втянуть в мохнатые ноздри щекочущий запах «эсикфлэйс» и не спеша насладиться этим блюдом, тончайше приготовленным женой, то Флейшер-второй этим преимуществом не обладал. Жил он на приличном расстоянии от парикмахерской и еду носил с собой в небольшом чемоданчике, который сопровождал его и в регулярных походах в баню.
Статная краснощекая Роза — жена Флейшера-второго и сестра Лейки- «фишерки», известной торговки рыбой, отправляя своего парикмахера (она так его и называла — «мой парикмахер») на работу, обычно клала в чемоданчик любимое кушанье мастера — круглые, довольно твердые, снаружи желтоватые от выступившего запекшегося масла изделия из творога — Гомулки.
…Была бы Зипа Гах рядом, можно было бы описать рецепт приготовления Гомулок… Жаль. Забыл расспросить…
Флейшер-второй в свободные минуты открывал чемоданчик и, стоя у распахнутых дверей, наслаждался Гомулками, успевая здороваться с прохожими. Делал он эго с достоинством, отложив недоеденную Гомулку в сторону и прикладывая руку к сердцу.
Если Флейшер-первый больше изобретательности и мастерства проявлял в стрижке мужских голов и лишь изредка снисходил к работе над прической дамы, то область украшения бобруйчанок самыми модными завитушками и челками была стихией, вдохновением Флейшера-второго.
Но нельзя сказать, что Флейшер-второй был чисто дамским мастером. Он был мастер-универсал и мог украсить вас таким «боксом» или «полечкой», что, вновь обросши волосами, вы задумаетесь, к какому же Флейшеру идти подмолаживаться.
Несмотря на это, оба Флейшера, как говорится, купались в работе, ибо их парикмахерские были на Шоссейной, а Шоссейная, как вы знаете, была не просто улицей, а была трактом, большой дорогой, мне хочется сказать — и можно сказать, — главной улицей города.
Стричься и иметь приличный вид было необходимой потребностью уважающего себя бобруйчанина, и, конечно, управиться со всеми желающими не смогли бы оба Флейшера, будь они одни, работай даже ночью и не обедай днем.
Но в городе были, слава Богу, и другие мастера, например Абрам Гершкович с его бородой, канарейками и страстью к тушению пожаров.
Но об этом после, когда придет’ время.
А сейчас мы идем по Шоссейной в сторону Березины.
В распахнутых дверях парикмахерской, украшенной вывеской, в которой мы узнаем бойкую кисть Бори Вихмана и его доходчивый текст: «Стрижка, бритье и завивка», стоит и откусывает от Гомулки элегантный Флейшер-второй.
— Здравствуйте, Хавер Флейшер!
Он кладет надкусанную Гомулку в сторону, прикладывает руку к сердцу и, улыбаясь, отвечает:
— Здравствуйте, я рад вас видеть, если у вас есть время, заходите!
Но у нас нет времени. Нам еще нужно пройти туда, в сторону Березины, и успеть вернуться вниз по Шоссейной.
Летний день длинный, но и его не хватит, чтобы рассказать о всех знаменитостях Шоссейной и, задумавшись, поклониться им.
Легний день длинный, но все равно солнце, окрасив сады и крыши закатными, как на старинных картинах, лучами, сядет где-то там, за железной дорогой, и таинственные, умиротворенные сумерки, постепенно, медленно потухая, превратятся в ночь.
А ночью мы никого поднимать с постелей не станем. Это время еще не наступило, и делать это будут совсем другие, недобрые люди.
Кто-то из бобруйчан однажды сострил, что провизор Розовский отпускал лекарства по рецептам, прописанным еще доктором Фаертагом, и будто бы фельдшер Гальперин барахтался в пеленках, когда Розовский уже был знаменитостью.
Словом, провизор Розовский был давно и всегда, и ни на час не разлучался с аптекой, ибо жил он тут же, только вход со двора, и колдовал над лечебными снадобьями днем и даже ночью.
Впечатлительные бобруйчане, получившие облегчение и даже исцеление от своих недугов благодаря лекарствам, приготовленным Розовским, охотно поверили остряку, приписавшему знаменитому провизору чуть ля не столетний трудовой стаж, а его сравнительную моложавость, живой ум и наличие нормальной семьи объясняли тем, что стены дома на углу Шоссейной и Социалистической, где неизвестно с каких времен помещается аптека, настолько пропитаны полезными лекарствами, что, пожив и поработав в таких стенах указанный остряком срок, человек не старится и даже теряет способность умереть.
Излечив приготовленными им пилюлями, каплями, порошками и микстурами не одно поколение бобруйчан и жителей окрестных деревень, Розовский как-то походя подарил городу еще и анекдот, который до сих пор бродит по свету, забыв свои истоки и принимая разные надуманные формы.
На самом деле все было так. Как-то зашел в аптеку к Розовскому один подвыпивший франт в костюме и при галстуке. Заложив руку за борт пиджака и слегка покачиваясь, франт попросил продать ему самый большой презерватив. Презрительно взглянув на предложенный пакетик, франт объяснил, что ему нужен такой размер, который он бы мог надеть на всего себя.
— Зачем? — сощурившись, спросил провизор Розовский.
— Видите ли, — стараясь изысканно строить свою речь, продолжал франт, — у нас на «Красном пищевике», в связи с предстоящим очевидным наступлением очередного Нового года намечается бал-маскарад, гак я бы хотел вырядиться мужским половым органом.
Франт оглянулся, нет ли в аптеке женщин, и добавил уже на ухо Розовскому:
— Чтобы вам было понятней, я хером хочу вырядиться!
Интеллигентный, деликатный провизор Розовский не растерялся, не смутился, вышел из-за прилавка, отошел на несколько шагов в сторону от франта, откинул полы халата, чтобы не мешали, присел, рассматривая покупателя как бы снизу, как бы подчеркивая его величие и важность, сдвинул очки на лоб и оценивающе, медленно произнес:
— Вы знаете… Поправьте галстук, и так сойдете!
Надо же было так случиться, что в аптеке в это время по каким-то своим надобностям оказался и был единственным свидетелем этой сцены длинноязыкий Боря Вихман. Давясь от смеха, он выбежал из аптеки и уже к вечеру разнес по городу эту историю.
С тех пор, прерывая или заканчивая бесполезный разговор с никчемной личностью или отвечая на чью-то высказанную глупость, бобруйчане говорят: «Поправьте галстук!»
Бобруйские остряки уверяют, что в деле создания анекдотов одесситы у бобруйчан полы мыли.
Правда, довольно часто это плохо кончалось.
Так случилось с рыжим Бенцой Фишманом, родным братом Неяха Фишмана.
Вы, наверное, помните, что эта семья братьев-балагул была известна как компания хамов и хулиганов, но если вы внимательно следили за моим рассказом, то, наверно, не забыли, что при всем хамстве люди они были отзывчивые и не лишенные воображения и, я бы сказал, даже некоторой мечтательн ости.
У младшего — рыжего Бенцы — эта мечтательность в свободное от работы и выпивок время переходила даже в сонливость…
Так случилось, что в транспортном объединении балагул была назначена лекция «О преимуществе социалистического строя в свете международного положения». Лектор — Рудзевицкий.
Собрание проходило в конторе объединения, украшенной портретом Маркса на красном фоне, исполненным художником Рондлиным еще в самом начале его государственного творчества.
Непонятно, что ел Рудзевицкий перед лекцией или накануне этого дня, действительно ли мучила его жажда, или он только подражал начальству, запивая каждую высказанную им глубокую мысль водой из стоящего рядом графина. Но делал он это довольно часто, и уже к середине лекции графин был пуст — и снова наполнен председателем транспортного объединения Маркманом.
Мечтательный, разомлевший под звуки лекции рыжий Бенца сладко дремал, вздрагивая и открывая глаза лишь при булькающих звуках наливаемой в стакан воды.
Когда лекция закончилась и неутомимый Рудзевицкий поинтересовался, есть ли вопросы у слушателей, все ли понятно, Бенца Фишман, ничего дурного не думая, а просто заботясь о здоровье лектора, ласково заявил:
— Говорить ты говорил больше чем^ва часа, воды ты выпил больше моей худой клячи, неужели ты не хочешь писать?
Собрание грохнуло. Балагулы умеют смеяться.
Дело, конечно, не в Бенце с его дурацким вопросом.
Бенцу конечно, арестовали. Он это заслужил.
Но жаль тех бедняг, которые рассказывали эту историю, ставшую анекдотом, своим знакомым, а те — своим знакомым и еще другим малознакомым…
Надо было рассказывать осторожно и не всем, и, конечно, не на базаре случайным встречным, чуть ли не прохожим…
Но кто знал… Кто знал… Неудачный такой анекдот получился в транспортном объединении балагул. Опасный анекдот.
А вот тот, что родился у провизора Розовского в аптеке на углу Шоссейной и Социалистической, даже понравился Главному Начальнику На каком- то заседании, разнося в пух и прах нерадивого, не выполнившего плана, но пытавшегося найти себе оправдание директора заготконторы, Главный Начальник закончил свою гневную речь такими словами:
— И, как гласит народная мудрость, мы скажем этому директору: «Поправьте галстук!»
Все присутствующие заулыбались и аплодисментами одобрили речь Главного Начальника и народную мудрость.
…Никто тогда не мог предположить, что всего лишь несколько лет отделяют город от вражеского нашествия.
И немыслимо было представить, что в аптеку к Розовскому войдут два полицая и немецкий офицер и предложат в течение суток переселиться с семьей в гетто.
Как тогда, в разговоре с подвыпившим хамом, Розовский улыбнется, сощурится и спросит:
— Зачем?
А вечером, за чаем, он объяснит семье, что в гетто тесно и неуютно и лучше им всем остаться дома. Для этого нужно выпить чай с сиропом, который он приготовил на этот случай.
И они все выпьют чай с последним снадобьем, приготовленным провизором Розовским.
Поклон вам, знаменитый провизор Розовский!
Вот она какая, Шоссейная улица…
Всмотритесь в нее, прислушайтесь к ее дыханию и не спеша пройдите еще немного в ту сторону, где, коснувшись холма, поросшего редкой сосновой рощей, с памятником на самой вершине, Шоссейная, словно состязаясь в беге с соседними железнодорожными путями, вырвется, освобождаясь от городской застройки, к реке, но, споткнувшись о магазин, где торгуют хлебом, и обтекая его, раздвоится и правым своим рукавом уткнется в станцию Березина и остановится среди извозчичьих фаэтонов, ржания лошадей, мелькания ласточек и пыхтения прибывшего поезда.
А левый ее рукав понесется мимо древних тополей, толщенная кора которых там-сям срезана рыболовами на поплавки, к бастиону крепости и деревянному мосту с перилами и башенками, протопает по его дощатому настилу над Березиной, минует еще один мост через затон и помчит, оставляя позади обе деревни Зеленки, и, обрастая по бокам корявыми тенистыми ракитами и белыми каменными столбами-коротышками, минует Титовку и превратится из улицы в большую и дальнюю дорогу.
Мы еще побываем в тех местах, а сейчас пройдем только немного в сторону.
Чуть дальше аптеки и чуть ближе пивной, где любят заканчивать свой натруженный день форштадтские балагулы.
На белокаменном одноэтажном доме короткая вывеска: «Фото».
Мы не будем заходить к этому еще одному знаменитому мастеру, прославившему Шоссейную. У нас мало времени, а от него так просто не уйдешь.
Отсняв своим громоздким фотоаппаратом на треноге из красного дерева много поколений бобруйчан и обладая общительным нравом, он посвящен в бесконечное количество историй и об одном только докторе Фаертаге может рассказывать часами. Кроме того, он любит угощать и, не торопясь, вспоминать давно умерших клиентов.
А у нас мало времени.
Лучше когда-нибудь, когда вас пригласят в приличный бобруйский дом и, накормив настоящим, достойным хозяев и гостя обедом, предложат в ожидании чая с лекахом и вареньем посмотреть семейный альбом, обшитый бархатом и чуть пахнущий сыростью и нафталином, — радостно соглашайтесь. Как бы вам ни хотелось вздремнуть или выйти в палисадник подышать и размяться.
Рассматривайте фотографии, смотрите в глаза этим бравым мужчинам и красивым женщинам, улыбнитесь голопузым младенцам и торжественным старцам, вживайтесь в эпоху.
А потом, осторожно вынув фотографию из альбома, посмотрите, что там на обороте.
Там, среди дарственных надписей или памятных строчек с датами ушедших лет, красивая печатка со словами «Фото Погосткина».
Жаль, конечно, что мы не зашли к нему и не пожали его тонкую, почти женскую руку.
Вы читаете: Предисловие. Пролог ❑ Главы 1-5 ❑ Главы 6-10 ❑ Главы 11-15 ❑ Главы 16-19 ❑ Главы 20-23 ❑ Главы 24-26
На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) Абрам Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Это не просто книга. Это живая история, иллюстрации к которой – картины Абрама Рабкина