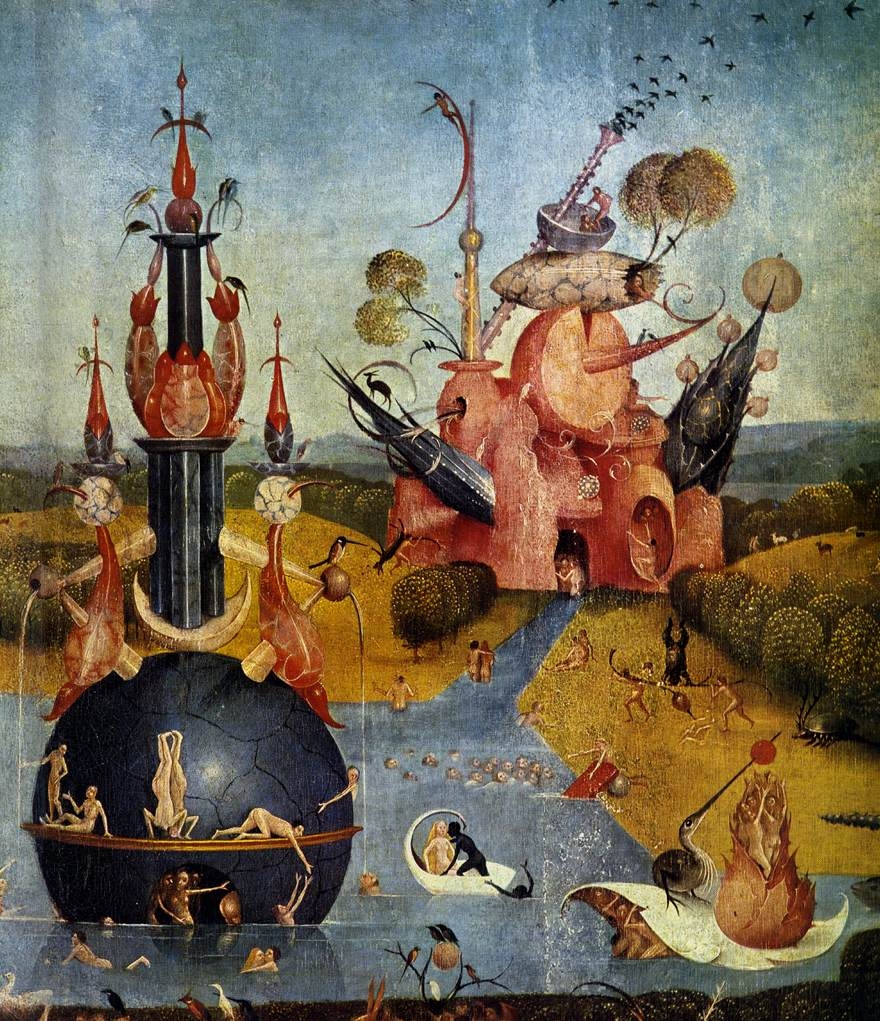Перед вами книга «Долгая дорога домой» — воспоминания Василя Быкова о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Писатель рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах.

Переводчик книги на русский язык Валентин Тарас пишет:
«Долгая дорога домой» написана смертельно больным человеком, который знал, или догадывался, о своей болезни и у него, очевидно, не было времени не то, что на отделку текста, но даже на перечитывание написанного… Кроме того, при написании книги у автора не было под рукой его архивов, записных книжек и дневников, по которым он мог бы сверить даты, имена, названия, уточнить последовательность тех или иных событий, — ведь книга писалась не дома, а за рубежом, куда писатель вынужден был на долгое время уехать, чтобы избавиться от атмосферы ненависти и лжи, которую создала вокруг него казенная официозная пресса, радио и телевидение. Читать далее «Василь Быков. Долгая дорога домой»